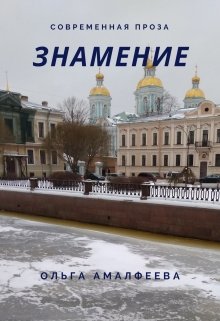полная версия
полная версияВирус турбулентности. Сборник рассказов
Сняв темные очки, она упругими сильными шагами, как по облакам, шла вверх по склону, оставляя за спиной тесную затхло свалявшуюся спутанную черноту. Сильными земными шагами уходила от душной провальной ямы, подставляя открытые руки и лицо солнцу, любовалась линиями на ладони и тонкими кистями, периодически подпирая пальчиком правой руки подбородок.
Тихо, не поднимая глаз, подбирала с шеи в прическу выпавший локон, замечая под одеждой мужчин сильные руки, изгиб торса и осознавая их мужественность и её красоту и силу, охраняя в груди маленького ангела с бубенчиками на золотистой голове, сквозь которого, как через солнечный лечебный пластырь, просачивалась жизнь.
– – – – -

Цвет индиго
Очень странно, если лукавить, и промыслительно, если не зажмуривать глаза, устроена жизнь.
В четверг сидела на скамейке в центре зала Эрмитажа, озиралась кругом, и одна мысль бесконечно шепталась в голове и пульсировала в пространство как радиомаяк: "Что тут делать, если не знаешь библейской истории". К вечеру эта мысль пережилась и уступила место более накатанным.
А рано утром в пятницу, пока сонная, не успев выпить чаю и проснуться, возилась на работе с компьютером, не хотевшим включаться по обычной причине моего безответственного промазывания мимо клавиш, сбоку бесшумно возникла женщина и говорит:
– Я вчера была в Эрмитаже.
– Да, была, – cогласилось равнодушно наблюдавшее до того возню с компьютером моё второе я.
– И я не понимаю, что там делать, если не знаешь библейских сюжетов, – женщина заговорила громче, отрывистей и, отвернувшись от себя, сверкнула возмущенно глазами куда-то выше стеллажей.
Попривыкшая к таким фокусам, но всё же не настолько, чтобы не замечать их, каждый раз проверяя их знаковость на качество, приличное этому званию, я бросила копаться с машиной и встала ровно и параллельно, чтобы не быть неверно понятой, чтобы услышать всё и чтобы тот, кто устраивает такие встречи, увидел, что я опознала вполне, понимаю, что происходит, и готова это принять.
– Вы знаете, – ответила я женщине, – я вчера была в Эрмитаже, и не понимаю, что там делать, если не знаешь библейских сюжетов.
Женщина стала чуть обычнее и перевела на меня взгляд:
– Там на первом этаже выставка. На ней несколько полотен. На самом большом человек шесть что-то делают. Вокруг толпятся люди, и никто из них не знает, что там изображено.
– Они не спрашивают друг друга, что изображено, не потому что стесняются, а потому, что просто не подозревают, что изображено что-то общеизвестное.
– Не зная библейских сюжетов, ты вообще не понимаешь ни живописи, ни музыки, ни литературы.
– Каждое знаковое произведение ведёт диалог с Текстом.
– Я хочу это знать.
– Я знаю, с чего начать. Только у нас, скорее всего, нет таких книг, я не видела. Я Вам расскажу, какие поискать, а пока давайте всё же посмотрим, что есть у нас.
У выхода из стеллажного тоннеля освещенная полка с мифами народов мира отуманилась, а сумеречная с религиями мира светилась снизу жёлтой масляной краской. В густой солнечной луже плавал горячим блином в медном тазу красный фолиант с фиолетовыми обрезами. По лицу скользнуло упругим теплым светом, руки согрелись, от перелистываемых станиц разбегались фиолетовые брызги.
– Надо же. Даже не знала, что у нас такое есть, – я листала, проверяя на ощупь краски и степень покоя живописного текста. В тишине фундаментального я не сомневалась.
Боковым зрением я чувствовала, что постепенно мы с книгой остаёмся одни. Не отрывая глаз от страниц, наугад двинулась за женщиной, намереваясь заручиться дружбой свидетеля и хранителя. Но женщина возникла снова откуда-то сбоку и сказала:
– Не сегодня. Я потом приду, – и исчезла. Совсем как-то, не топая, не надевая куртку.
Ярко-синий берет, синие пытливые глаза, синяя кофта с мелкими пуговицами.
Я видела её первый раз и не запомнила номера читательского билета.
– – – – -

Пазлы
– Лен, передай словарь.
– Держи.
– Переодеться не успеваю. Будь другом, посмотри, как там "вино" по-английски.
– Вино-то зачем?
– Да узнать: пьет, не пьет.
– Так он тебе и скажет.
– Он наивный, не поймет, зачем спрашиваю.
– Ладно. Сама-то о себе будешь рассказывать?
– Что? Что не пью, брожу по ночам и ловлю глюки?
– Перестань.
– Ну, что, Лен. Посмотри, так нормально?
– Ты не хочешь тапочки переобуть?
– Зачем? Внизу он всё равно не увидит, я за стол сяду.
– А вдруг камера упадёт?
– На скотч приклею. О, кстати, скотч! – она пронеслась мимо Лены в другую комнату. – Я ему скажу, что умная, что красивая, что…
– Умная – не надо, сбежит или обозлится. Про красивая – не поймет, что это ты от избытка, а не от недостатка.
– Что? Я не слышу…
Лена, сидевшая с ногами на диване и вертевшая в руках карандаш, уткнув его в подушечки пальцев, надавила сильнее, откинула голову назад и закричала в сторону комнаты, где копошилась подруга:
– Я говорю, про пазлы скажи. Про пазлы – пойдет, думаю. Запомнит, что усидчивая. Так себе хобби. Мужских интересов не ущемляет.
Надя высунулась из проёма, на ходу вдевая сережку в ухо. Мешал скотч, зажатый в той же ладони:
– А говорить, что я их каждую ночь собираю?
– Ну ты чего, соберись, полчаса до связи осталось.
– Нет, пусть знает, что я каждую ночь собираю пазлы. Что тут особенного.
– Слушай, ну зачем всем это знать. Легла, дело своё сделала и иди собирай свои картинки. Кому какое дело.
– Это забавно. Но он в конце концов увидит, что у меня одна коробка.
– Иди сюда. Иди сюда, сказала, – Лена протянула руки и потянула стоявшую рядом Надю.
Та обмякла. Лена погладила её по голове, перебрала, поправляя, волосы.
– Перестань. Тебе давно пора что-то с этим делать. Новая страна, новый мужчина, новые люди. Язык, в конце концов, который ты не понимаешь. Пусть говорят, что хотят. Пусть делают, что хотят. Ни тебе телевизора, ни газет. Всем улыбаешься и машешь. Слышишь, – она заглянула подруге в глаза, – Слышишь меня? Улыбаешься и машешь. Девочка моя. Я тебе на свадьбу очки темные подарю. Хочешь? Ну. Хочешь? Хо-о-чешь. По глазам вижу. Ну вот. Всё, не реви. Красотуля.
– Лен, я не смогу. Я не могу всё забыть.
– А зачем забывать. Достаточно просто не помнить. Не помни, и всё. – Лена бросила карандаш на стол. – Не надо ходить этой дорогой, Надя. Не нужно больше. Всё.
Надя развернулась, волосы растрепались – блузка, нитка жемчуга, бесполые растоптанные тапочки.
– Я не знаю их, Лена, ты понимаешь?
– Понимаю.
– Я понятия не имею, что кто они.
– Понимаю.
– Я просто на остановку шла. У нас нет другой дороги до остановки. Только через кладбище. Ну, или в обход вдоль завода.
– Надя, я знаю.
– Я просто шла на остановку.
– Надя, перестань, – Лена рассердилась и повысила голос. – Перестань сейчас же. Может Павлу позвонить? А? У нас есть ещё время. Давай позвоним. Ты поговоришь – и тебе легче будет. Давай, ты, наконец, объяснишься. Человек всю жизнь в непонимании. А ты столько лет думаешь, что виновата. Тебе нужно снять это с себя и спокойно ехать. Давай сейчас. Разом.
– Ты думаешь? Что я ему скажу – про кладбище?
– Да, ты так и скажешь. Я шла по кладбищу, в институт. Он поймет, он сам там ходит. Давай, говори. Говори мне, как ему.
– Я говорю тебе, как ему, русским языком. Впереди шли девочки-школьницы. Выпускницы. С мороженым. С бантами, с лентами. Смеялись. Я хотела их обогнать. Вдруг одна остановилась и встала поперек дороги как статуя. Прямо с мороженым. Глаза бродят.
– Девочки, – говорит, а все молчат. Понимаешь, разом все замолкли, как сговорились. Стоят, озираются. И я стою.
– Девочки, – говорит, – а ведь мы уже вдовы.
Так и сказала: «Девочки, а ведь мы уже вдовы».
И тишина такая, Лен. И мороженое капает.
Я повернулась, куда она смотрела – аллея боковая, широкая, заасфальтированная. И по обе стороны гранит и головы гипсовые. Головы, головы а потом без голов портреты на плитах. Сильные, красивые, улыбаются: двадцать пять, двадцать семь, тридцать два, двадцать. У меня как будто калькулятор на минус включился. Восемьдесят семь минус шестьдесят пять, восемьдесят два минус пятьдесят девять. Зачем у меня так хорошо с математикой? Синусы-косинусы – чтобы потом годы жизни на могилах считать?
– Лучше б ты деньги считать научилась, – улыбнулась Лена.
– Ты слушаешь или нет. Я не считала себя вдовой. Я считала себя невестой, понимаешь. Не-ве-стой. Саша – там, Андрей из прошлого выпуска, Виталя с Сеней. Все в Афгане. Какое отношение они имеют к этим...... – протезам? У меня в голове выпускной, рассвет, Виталя по лужам шлепает, Сеня с моста самолеты пускает. Андрей с гитарой и ёжиком. Помнишь: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, «шёл ежик резиновый, в шляпе малиновой, с дырочкой правом боку». Весь вагон к нам сбегался, когда он пел. И свистел, как резиновый ёж.
– Это когда вы на каникулах в Узбекистан ездили? Ну хорошо же, Надя. Он и теперь, наверно, поёт.
– Ну они же не мёртвые. Понимаешь. Они живые. Я заявление в своем медицинском подала, чтоб меня после выпуска к ним взяли. Вместе учились, вместе в институты поступали, мальчики на войну, девочки должны им помогать. Ну так ведь. Спасать, лечить, жалеть. У нас многие девчонки записались.
– Так и хорошо. Я же и говорю тебе – хорошо.
– Что хорошо? Кругом гробы мраморные. Солнце через тополя. Мы все в пятнах камуфляжных. Девчонки в пятнах, лица в пятнах, банты желтые. Их физически хотелось снять с себя. Отмыть. Не могла. Вьелись. Весь автобус, пока ехала, всё оттирала. Прямо руками. Вся в пятнах.
Вспомнила, как в гостинице в Узбекистане Андрея попросили помочь закрыть переходы между балконами. Администраторы попросили. Они одно крыло на этаже запирали на ключ, потом в ручку вставляли железный стул и ещё тумбочкой задвигали. Там, говорят, летчики живут. Они возят груз двести. Каждую ночь так. Пьют, потом по этажу бегают, в номера рвутся. Балконы, говорят, запирайте. И зашторивайте. Балконы круговые.
И вот те, Лен, кто бегал сумасшедшим голым по балкону – теперь мертв и лежит вместе с тем, от кого он бегал. Меня, прямо, замуровало там, в автобусе, как я это поняла. До сих пор эти балконы снятся. Лица эти голые, впаянные в стекла.
Вспомнила, как наш проректор вызвал и сказал: «Зачем тебе туда? Война – грязь. Знаешь, что там с такими, как ты, делают?" От этого каменело всё внутри и болело ниже пояса. Не помнила этого ничего, а тут вдруг в автобусе пятна кладбищенские счесываю – и всё вспомнила. Сына Марии Исааковны вспомнила, который приходил в класс прямо посреди урока и просил денег. Сгоревший, зубы одни белые. Крупные зубы, кудри, рубашка цвета песка. Мы слова тогда такого не знали – наркоман. Просто он был чужой среди наших белых фартуков и пионерских зорек. Он резал день надвое и вспоминался как привидение. Я только потом посчитала, что он всего на четыре года старше. Учился в Москве на физтехе, забрали а армию. Вернулся – гепатит, наркомания, через два года похоронили. Один сын. Я Марию Исааковну потом сама в нашу онкологию пристраивала. И хоронила сама.
Что мне Павлу сказать, что я не вышла за него замуж, потому что меня преследовали мертвецы? Потому что меня не изнасиловали в каком-нибудь палаточном городке? Потому что они въелись в меня кислотно, эти Сени и Виталики? Потому что я чувствую себя порченной?
– Ну ты же не виновата, что не попала туда, что войска в тот год вывели.
– Я виновата. Потому что прямо из автобуса вся в липкой этой пятнистой жути рванула в военкомат забирать заявление. А мне: «Таранова, не будет набора. Войска выводят».
Я всех предала. Не пошла – ребят предала. Пошла бы – предала своим бумажным героизмом Павла с больной мамой и братом. Мы с Тимошкой эти пазлы собирали. Он мне их подарил.
– И ты не двинулась ни туда, ни туда. Сидишь и двадцать лет детали стыкуешь. Безмужняя самоназначенная вдова. Ты надоела мне. Понимаешь? Хватит. Не надо ничего Павлу рассказывать. Не думаю, что он что-то поймет из этого бреда. Отдай эту коробку кому-нибудь. И пойди тушь поправь. У нас Америка на связи через десять минут.
– – – – -

Мясорубка
– Тебя надо учить, сволочь, учить, – последний раз, медленно, с оттяжкой, пнул её, – Бабы.
Покачался, повернулся.
– Э, бабы, бля, – устало ткнул ногой в диван, закинул руку на голову, – бабы, бля, – поревел в локтевой сгиб, сплюнул в сторону, утерся тыльной стороной руки, лёг и уснул.
Вжав ладони в лицо, ещё сильнее скрючившись и подтянув колени, боком, отталкиваясь пальцами босых ног от пола, она беззвучно отползла в угол. Села, закрыла голову руками. И молчала.
– Наташ, принеси воды, плохо мне, – он болезненно сморщился, отклонился от сидевшего на коленях ребёнка и придавил кулаком под ребра, – У Вовки вчера перепили. Водка палёная. Ты же знаешь, я не пью, не могу. Дочка у него родилась – давай отметим. А я как? У самого дочка. Да, Светка, ты дочка? Дочка ты? – он наклонился и потерся щекой о висок в шелковых завитушках. Сощуренные глаза лучились.
Светка шлёпнула ложкой по манной каше – та брызнула во все стороны, попала ему в лицо. Он рассмеялся, вытерся и поцеловал её в макушку:
– Пойдем, доча, нам в садик пора. Мамка нас соберёт, – ссадил ребёнка с коленей, – Соберет нас мамка? Наташ, прости, задел тебя вчера. Ничего не помню. Знаешь ведь, что люблю. Чего дуешься? Мы с дочей в садик. Да, грибочек, в садик?
Дай нам, мамка, с собой колготок запасных и конфет. Конфетами детей угостим. Правда, Светка, угостим?
– Даа-а.
– Вот, доча, вот такие мы, Семёновы, не жадные. Умница моя. Самолёты-самолёты, – он подхватил дочку, перевернул на живот, та вытянула руки в стороны.
– Самолёты! – они, жужжа, улетели в коридор.
Наташа пошла к батюшке. Дежурил отец Михаил. Они сидели на лавке за трапезной, у крыльца сторож вскапывал землю под тюльпаны. К воротам подъезжали и отъезжали машины.
– Ну подумаешь, мужик выпил. Он же осознал, покаялся. А как ему дальше исправляться, скажи? Только через покаяние, – отец Михаил повернулся к ней. – У тебя что ли крылья? А?? Ну где? Повернись-ка. Поди сложила перед тем, как в храм идти?
Она невольно улыбнулась. Нет у неё крыльев. Стало легче. Нет крыльев. Жизнь – она такая. Она разная. Сегодня одно, завтра – другое.
Они с Вадимом были счастливы. Он ещё в институте её присмотрел и, при каждой возможности сходя с маршрута, подвозил до дома. Иногда забирал и с пассажирами. Те подыгрывали симпатичному таксисту и его милой девушке. Встречал, цветы возил, помогал во всем, когда мама болела. Девчонки говорили, счастливая она. В толстенных очках, не отличавшаяся особой стройностью, не вылезавшая из книжек раньше всех вышла замуж. Моя на веки вечные. Моя Наташа. Обхватывал её. Никому не отдам.
– Он борется, ему стыдно. К кому ещё ему идти? К кому? Ты ему для этого и дана. Ты ему для исправления дана, а он – тебе для исправления. Кто ты такая, чтобы его бросать? – батюшка повысил тон. – Чего возомнила?
Наташа вышла из ограды и потихоньку пошла через рынок на работу.
Вадиму было муторно и нескладно.
– Я урод. Господи, я – урод.
В него ничего не лезло. Брал заказы без перерыва, кидал, не пересчитывая, деньги, резко хлопал дверью.
Домой вернулся за полночь. До упора возился в гараже, зашел в круглосуточный.
В квартире было тихо. От полос света, падавшего через открытые двери, коридор казался длинней. Стараясь не шуметь, он двинулся вдоль него. В столовой горел боковой светильник. Наташа сидела в углу слева от двери в кухню, в профиль к нему, на диване с книгой, мерцал телевизор. Он не стал заходить. На столе в кухне высились горкой накрытые полотенцем кастрюли. Напротив, в детской, из-за плотных штор было совсем темно. Вадим прошел в комнату, лег, накрылся с головой и мгновенно уснул.
Наташа всё больше молчала, отвечала односложно, вежливо, смотрела мимо, засыпала на диване. Он стал беспокоиться, ревновать. При любом постороннем звуке настораживался. Поставил на оба телефона на маячки. При поздних возвращениях жены смотрел на часы, каждые пятнадцать минут порываясь выйти навстречу или позвонить в полицию.
– Хочу съездить к сестре. Со Светой.
Наташа стояла в коридоре на коврике в обуви, блузке и юбке, готовая к выходу. Сумку двумя руками держала перед собой.
– Езжай, раз надо, – он поднял на неё глаза. Она быстро опустила свои.
Отпустил кое-как. Ходил с тяжелым чувством. Мрачнел.
– Маша, я люблю его, мне его жалко. Дурак такой, он же не пьет совсем. Ему нельзя. Ходит черный. Не ест ничего. Работает сутками, дома почти не бывает, только деньги на стол кладет. Я простила его давно. Нет на сердце обиды. Маш, что делать? – она теребила в руке ягоду.
– Маша, что делать, не знаю. Как чужой ходит. Не смотрит, не разговаривает. Я к нему, он – от меня. Что делать, Маш?
– Хвостик оторви – и в таз. Всё перемелется, мука будет, – Маша засыпала очередные ягоды сахаром. – Подожди, сестрёнка. Всё проходит – и это пройдёт.
В субботу Вадим сдал смену раньше и пошел на всенощную.
Встал в полутемном углу за приделом.
– Прости, Господи, мою душу грешную. Прости, Господи. Наташа, прости.
Потом пошел со всеми в трапезную пить чай. Есть одному дома было невозможно. Уходить не хотелось.
Ничего не изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз. Прихожане принесли пирожки, сладкое. Жара спала, потянуло прохладой. Все расселись за длинным столом, после краткой молитвы пили чай и беседовали.
На этот раз отец Михаил отвечал на вопросы об отпуске:
– Довели себя, понимаете, до позора полного. Кто отпускает женщину свою одну на отдых? Я не понимаю. Тот, кто устал от неё дома? Ну тогда, извиняюсь, это не семья, это идиотство. Так нельзя. Женщина одна отдыхать не должна. Нехорошо это. Я слышал эти истории тысячу раз уже. А попробовать, а интересно, Господи, помилуй, ах, прости, второй раз тоже не грех и так далее. Это ж постоянно повторяющаяся вещь. Нельзя отпускать женщину одну. Так может поступать только человек, который не любит свою жену, не бережет её.
Вадим заерзал на стуле. Ему стало плохо, душно. Он осторожно выбрался на улицу.
Дома включил телевизор. Щелкал кнопками пульта, всё прокручивал в голове разговор.
Какой-то парнишка с дальнего конца стола спросил:
– Можно ли искать жену, если нет денег на её содержание?
– Хороший вопрос. Можно, – с готовностью ответил батюшка. – Можно, если есть желание трудиться. Но жены разные. Большинство женщин быстро хамеет в требованиях, у них начинают рога расти, – он показал два растопыренных пальца, прихожане заулыбались. – Женщины, они, конечно, сейчас будут обижаться, но я скажу. Бабы, они же наглые, противные. И если она в лоб не получит хотя бы раз в жизни, она ничего не поймет. Ни-че-го.
Отец Михаил поставил локти на стол, подпер кулаками подбородок и призывно посмотрел на собравшихся:
– Мужики виноваты во всём. Мужики виноваты. Распаскудили бабьё. Не били долго. Они из-за этого думают, что их не любят.
При этих словах раздался хруст и батюшка, чудом ухватившись за стол, основательно завалился на бок. Женщины, охнув, повскакивали помочь.
– Да это стул, выработал свой ресурс, – не поменявшись в лице, отец Михаил встал поменять его на другой. – Так вот, братья и сестры, – продолжал он походя, – предлагаю тут подумать. Что лучше, а что хуже.
Вадим никак не мог сосредоточиться на чем-то одном, всё щелкал и щелкам пультом, наконец, раздраженно бросил его на пол.
– Где её носит? Что уехала? Ну подумаешь, поучил разок. Крепче любить будешь. Уважать. Понимать, что хозяин.
Спустился в магазин за пивом. До утра привычно моргал телевизор.
Подъезжали к станции, Наташа волновалась, передумывала, что скажет. Вадим встретил её на вокзале молча. Взял на одну руку дочку, в другую – сумку и пошел. Она покатила за ним тяжёлый чемодан с вареньем.
– Как Вы, Наталья Ивановна? Как съездили?
– Спасибо, Виктор Игнатьевич. Вот, варенья с сестрёнкой наварили.
Наташа выгружала из сумки в холодильник контейнеры с едой. Водитель, развозивший администрацию и заказы, обедал.
– Угощайтесь. Да вы банку берите. Мне на радость. Дома всё равно никто не ест.
Они почти не встречались. Приходили в разное время. Наташа проверяла допоздна тетради и так и засыпала с ними на диване. Вадим утром уводил дочку в садик и возвращался к ночи.
Поздно вечером ей позвонила Маша, сказала о своем диагнозе. Наташа записала на листок подробности, нужные лекарства, номера докторов. Повесила трубку и замерла, примерзнув к стене.
Хлопнула дверь, Вадим прошел мимо столовой, заглянул, вернулся, подошел к столу, перевернул к себе листок, прочел.
– Наташ, – подошёл, обнял одним махом, голос прыгал. – Наташа.
Качнулась навстречу, как дерево. Смотрела за его плечо невидящим глазами.
– Наташа, родная.
Она держалась за него везде, где не заставляли разжимать руку турникеты и двери. За палец, за рукав, за полу пиджака. В ожидании, в очереди и на остановке, обходила, втыкалась лицом в грудь, просовывала ладони за спину, прижимала и говорила через него в них.
В тот вечер Вадим пришел домой раньше – поднялась температура, выворачивало суставы, разламывалась голова. Наташа крутила на кухне фарш на котлеты, заглядывая через проем двери в телевизор. Светка бегала из комнаты в комнату.
Вадим лег на диван, всё плыло перед глазами.
– Свет, не бегай, голова болит.
– Бр-рр-р, – дочка пронеслась мимо.
– Не бегай, говорю, ну кому я сказал.
Балованная отцом, девочка стучала ему ладошками по лицу, кружилась вокруг, подпрыгивала и снова неслась через комнаты:
– Папа, я самолёт, смотри, смотри, я самолёт, папа.
– Ты не понимаешь что ли. Иди сюда, – превозмогая головную боль, он попытался поймать пробегающего мимо ребенка.
Светка взвизгнула и расхохоталась. Вадим сморщился и закрыл рукою глаза.
– Ты чего хамеешь, – простонал он. – Счас как дам, мигом угомонишься. Распаскудилось бабьё, кому сказал, иди сюда.
Резко сев, он выбросил вперёд длинную руку. Света отлетела к стене:
– Мама!
Из чугунной мясорубки, полетевшей в его спину, сыпались запчасти.
Тот же молодой человек снова поднял руку:
– Что же, прямо бить? Женщину – бить?
– Ну конечно! – отец Михаил сыто улыбнулся. – Конечно. Ты попробуй. И жить потом попробуй с ней. И с собой. Если захочешь.
Батюшка опустил руки на стол и, перекладывая высыпавшиеся куски рафинада обратно в коробку, тихо, как для себя, заговорил:
– Она за тебя держится, на тебя смотрит. В упор, в лицо. Потому что она от тебя, от мужа, взята. На тебя и смотрит. А ты от земли взят – на землю смотри. Она в защите нуждается, в тепле, в покрове. В том, чтобы быть на месте, как ребро, вот здесь, – он поднял глаза и постучал указательным пальцем себе в грудь, – под сердцем.
– А с рогами как?
– А что с рогами, – грянул отец, откинулся на хлипком стуле и размашисто развел руки в стороны, – прижал покрепче – они и осыпались, те рога, как прошлогодний снег. Так-то. Всему вас учить надо.
– – – – -

Аутсайдеры
Махнув рукой или показав пальцем в любую сторону, мы делим этим жестом пространство на две части – правую и левую.
Линия на белом листе раскалывает его на две плывущие льдины. Каждый день разнимает нас на вчера и завтра. Любое событие – на "до" и "после". Упавший луч, брошенная ветка, дорожная разметка очерчивают зримые границы, разобщают и дробят делимое. Переступая их, мы физически ощущаем сопротивление.
Самое простое понятие или слово, будь то "собака" или "хомяк", сортирует людей на имеющих и не имеющих, любящих и не любящих, боящихся и нет.
Здоровье, деньги, возраст, образование – капризные обстоятельства, разделительные черты, невидимые линии, структурирующие нас на правых и правильных "своих" и неправых и ошибочных "чужих".
Мы – обоюдные аутсайдеры.
Взаимозаменяемые и не существующие друг без друга.
– – – – -