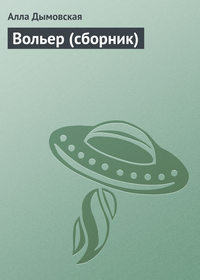Полная версия
Невероятная история Вилима Мошкина
Рафаэль загоготал собственной шутке, девицы, ничуть не обидевшись, хохотали тоже. А Вилке было совсем не смешно. И это Совушкин, его кумир вот уже два года! Какой-то подзаборный хам, а не советская поп-звезда. Рафаэль тем временем продолжал свой пьяный треп.
– Девки, гляньте, он аж офигел от счастья! Да нахрена ты мне сдался? А малюнок на память счас соорудим! – Рафаэль зашелся в хохоте и одновременно полез в «бардачок». Вывалил кучу хлама, из коей извлек синий фломастер, – ну-ка, наклонись.
Вилка, ничего еще не понимая, машинально наклонился вперед. Он и в самом деле офигел, но только никаким образом не от счастья. Совушкин, дурачась и изгаляясь, уже рисовал на Вилкином лбу автограф.
– Во, вещь. Носи на здоровье, – постановил эстрадный кумир, и сказал уже девицам:
– Теперь три дня умываться не будет. Фанаты, блин.
– Рафа, ты это чересчур, – огрызнулся из-за руля администратор Тучкин и повертел пальцем у виска:
– Совсем уже того!
– Ниче-о! Совушкину все можно. Совушкин – самый великий! Самый или не самый? А ну, скажи! – и Рафаэль довольно сильно стукнул администратора в плечо.
– Самый! Только уймись, – попросил его Тучкин и тоскливо сказал, ни к кому собственно не обращаясь, – Как с ума все посходили вокруг от твоей «Пирамиды». Третью группу беру, никогда такого не было. Ну, я понимаю, Ротару, Пугачева, но чтоб какой-то Совушкин?
– Ты, тля, заткнись! Я не какой-то, я самый! Меня Зыкина на правительственном концерте целовала в губы! А ты меня в зад поцелуешь и еще спасибо скажешь, не то вышибу и Бричкина, глисту, возьму на твое место. Ну-ка, тормози тачку!
– Рафа, хватит, я же пошутил, я не то имел в виду! В смысле, что вот парень из Челябинска, неизвестный никому, вдруг бац, и в дамках! – оправдывался Тучкин скорбным голосом.
– Тормози, говорю, обсос ты гребанный! – Рафаэль уже не стесняясь перешел на площадный слог. – Пошутил он, мать твою.
– Ну, все, ну извини. Рафа, ты ж меня знаешь, я за тебя и в огонь, и в воду и к министру культуры! – совсем уже плаксиво запричитал администратор.
– То-то! Твое место у параши, сиди и не чирикай. На первый раз прощаю, – милостиво отпустил администраторские грехи Совушкин, его развозило все больше и больше. Он опять повернулся к Вилке:
– Не, ну ты видал? Я, блин, номер один в этом поющем гадюшнике, а мне всякая свинья будет хрен крутить! Я только рот открою, уже кругом кончают. А почему? Думаешь, лапа у меня? Талант, во-о!
Вилка ничего не ответил, да Совушкин и не нуждался в его одобрении. Ему было все равно на какую аудиторию вещать. Девицы хихикали и курили, в машине стало невыносимо душно и вонюче от алкогольных паров и сигаретного дыма.
– Комсомольский, – кондукторским тоном провозгласил администратор, – тебя, парень, где высадить-то?
– На углу, у светофора, – ответил Вилка. Ему не терпелось поскорее выбраться из поганой машины.
У светофора его и высадили.
– Бывай, брат. Помни мою доброту! – прокричал напоследок Рафаэль, и «пятерка» умчалась в Лужники.
Вилка дошел до ближайшего к нему сугроба и сел в снег. Сначала просто так, безмолвно и неподвижно, потом захватил в пригоршню холодную, сбившуюся в ледяную коросту массу и стал остервенело тереть лоб. Тер до боли, до морозного ожога, до полного омертвения. Потом опять просто сидел.
Мама, конечно, его ждала. Увидела Вилку, ахнула. Мокрое лицо, исцарапанный лоб. Глаза безумные, страшные. Поила чаем, зачем-то капала валерьянку. Была глубокая ночь. Вилка не думал ни о чем, он умирал и хотел спать.
Мысли пришли только на следующий день. Вилка ходил в школу, ездил с Анечкой в аптеку и к ней домой, и думал, думал. Вчера он опустил в кладбищенскую землю возможно лучшего на свете человека, который, будь Вилка умнее, непременно стал бы его преданным другом, вчера же он получил нежданный приз за многолетнее терпение и о, чудо! целовался с Анечкой. Но думал он не об этом. Самые важные, трагичные и счастливые события его жизни обесценились и отлетели прочь из-за вульгарного люмпена, коему Вилка, собственными руками, устроил сладкую жизнь. Вилке было явлено откровение, которое пришлось принять и с которым пришлось смириться. Он дарил удачу людям – тем, что слепо нравились ему, – ничего толком о них не зная и воспринимая их чужое бытие через розовую призму собственных представлений. Теперь Вилка поплатился за это, узрев наяву плоды своих трудов и забот. Уличный хам и пьяница, вознесенный Вилкиной волей на вершины благополучия, не знал даже, что ему делать с привалившим счастьем и еще более уродовал сам себя. Почему? Да потому, тут же нашел ответ Вилка, что дарованные ему блага были не выстраданы и не выслужены, но обрушены посторонней волей сверх меры, и Совушкину оказались не по силам.
Вилка жалел о напрасно потраченной удаче, которая пригодилась бы человеку достойному, но и понимал, что явление вихря не происходит по заказу. Это, конечно так, и все же никто не заставлял Вилку далее питать жалкую личность Рафаэля Совушкина благодатным соком фортуны. «А надо было заранее разузнать, кто такой и чем дышит, для чего живет на белом свете, – корил себя Вилка, – нет, кинулся благодетельствовать без разбору, теперь получай. Как же все нескладно!» И постановил удачу отобрать.
Легко сказать! Вилка был без понятия как это сделать, и даже не ведал, возможно ли сие вообще. Вечером, вернувшись от Булавиновых, сидел за письменным столом в своей комнате, будто над уроком. Глядел в раскрытую книгу, видел фигу, и опять думал. Прецедента отбора удачи в его практике еще не имелось, да и до нынешнего дня в этом никогда не виделось нужды. А вдруг опять явится стена? Убивать Совушкина он не хотел ни в каком случае, да и ненависти к нему не испытывал. Разве брезгливое неприятие и жгучий стыд, к тому же Рафаэль, хоть и форменное быдло, а до дому его довез бескорыстно, за что Вилка был ему благодарен. Здесь следовало не казнить, а лишь восстановить справедливость. «Зуле, что ли, брякнуть? – привычно подумалось Вилке, – да поздно уже». Может, просто все сказать, как обычно, только наоборот, вместо хочу, не хочу, вместо желаю, не желаю? Чувство-то искреннее.
Вилка подумал, потом произнес про себя, и пред ним явилось, заслонив собой привычный интерьер его комнаты. Нечто, как сивка-бурка, как лист перед травой. Вилка от неожиданности даже не понял, что это.
Это была стена и в то же время не совсем стена. Во всяком случае, совсем не та стена, которая являлась по зову его ненависти. То есть и она была, но где-то далеко «за», невидная и нестрашная. А впереди, прикрыв собой темное тело стены, сверкало непонятное нечто. Словно блестящая паутина, сотканная из множества ослепительных, искрящихся бело-розовых нитей, отливавших солнечным, оранжевым светом. Паутина была столь невыносимо прекрасна, что Вилка, ненадолго забывшись, залюбовался игрой ее красок. Пока не понял, что смотрит на собственное творение, дело рук своих, и что именно так в этом главном мире выглядит созданная им удача.
Вилка медленно подошел к сотканному им шедевру, коснулся паутины ладонью. Под рукой его тут же заискрилось, полыхнуло, но не обожгло, лишь защекотало. Нити на ощупь были мягкие и теплые, но упругие невероятно, и немного скользкие. Вилка потянул за одну. Нить подалась, потянулась, но вскоре защемилась и замерла. Вилка сообразил, потянул за соседнюю, высвободил узелок, протащил далее. Когда нить намертво натянулась, и распутать было уже никак невозможно, Вилка поднатужился и оборвал. И тут неизвестно откуда узнал, что делает именно то, за чем пришел сюда, и этими своими действиями вот сейчас отбирает удачу у Совушкина.
Трудиться пришлось долго. Оторванные и отброшенные нити, лежали у его ног блеклой кучей и постепенно таяли. Вилка очистил все, до самой последней бело-розовой пряди, и оглядел то, что осталось. На месте сверкающей паутины теперь пребывал какой-то сетчатый каркас, бесцветный, но тускло зримый, через который пальцы проскакивали будто сквозь туман, и ухватить его не было никакой возможности. Внутреннее чувство подсказывало Вилке, что в этом случае бороться бесполезно, и ячеистая основа неуничтожима, по крайней мере, до тех пор, пока жив Рафаэль Совушкин, и что раз созданная, она пребудет до конца его дней. Вероятно, сотворена она была по велению самого первого вихря, приведшего Вилку и его подопечного во взаимосвязанное целое, и Вилка в любой момент в силах повторить обратный процесс, вернуть воссозданные заново нити удачи на место. «Оно и к лучшему, – подумалось Вилке не без облегчения, – коли Совушкин исправится, можно сделать все, как было».
Теперь же, глядя на тающие под ногами, отторгнутые нити, Вилка узнал и то, почему от него требовалось питать удачу. Паутина, надо думать, имела некую особенность рассасываться со временем, и без его усилий и забот теряла свойства. Хотя Вилка, разматывая белые и розовые завихрения, подметил одну интересную особенность. Там, где густота их казалась достаточно плотной, одна прядь словно бы подпитывала другую и наоборот, создавая нечто, вроде крошечного вечного двигателя, и те места ему особенно трудно было рвать. Вилке пришло в голову, что если бы паутина стала совсем сплошной, то и существовать самостоятельно она могла бы и без Вилкиной заботы, и возможно сделалась бы неуничтожимой. Ведь той же Танечке год от года требовалось все меньшее и меньшее участие Вилки в поддержании благополучия ее семейной жизни. Может, плотность ее паутины была столь высока, что почти справлялась сама.
Занимаясь своими любопытными исследованиями, Вилка как-то упустил из виду, и даже позабыл о том, что находилось далее за паутиной и прозрачным каркасом. Стена. Темная, холодная, страхолюдная. Та самая. Вилке сразу захотелось удрать прочь, но исследовательский соблазн был велик. Подойти, посмотреть, пощупать. Пока он не в гневе, стена, быть может, вовсе и не опасна. Задержав дыхание, Вилка сделал шаг за туманную сетку, прошел насквозь и… Очутился снова с той же стороны, с которой и был. Заинтригованный, он шагал раз за разом, пересекал ячеистый студень, но снова и снова оказывался на том же месте, откуда начинал свое движение. К стене он не приблизился и на миллиметр. Это было здорово. Здорово, что Совушкина он не смог бы погубить, даже если б сильно захотел. Нематериальная, зыбкая преграда делала акт уничтожения совершенно невозможным, страхуя своего хозяина. Слава богу, вихрь удачи еще и защищал владельца паутины от вторжения. Вилке от этого открытия стало хорошо. И он вернулся в реальный мир.
Уровень 13. Телята и Макар
А в мирских делах зрели существенные перемены. Причем касались они Анечкиного осиротевшего и оскудевшего семейного дома. Академик Аделаидов, взявшийся опекать Булавиновских женщин, затеял авантюрное предприятие – уговорил Юлию Карповну с дочерью и свекровью переехать к нему. Пустующую квартиру можно сдать, для поддержания видимой финансовой независимости. Юлия Карповна, погрустив и хорошенько подумав обо всем, на предложение академика согласилась. И то правда! И сирый академик совсем одинок, и они, три бесхозные, лишенные мужского покровительства женщины. И им защита, и Аделаидову компания, чего уж тут? К тому же Константин Филиппович умел убеждать:
– Переезжайте, Юлия Карповна! Нечего вам стесняться. У меня горе, и у вас горе. Вместе легче терпеть будет. Уж я вас в обиду не дам. Слава богу, копейки по чужим дворам не считаю, машина есть служебная, надо станет, свою заведем. Квартира огромная, только вот дачи собственной не имею. При разводе так постановили. Мне квартира, бывшей супруге – загородный дом. Но это ничего, от государства мне казенная полагается. Пропишу вас, оформлю как опекунство. Я все ж в летах.
– Господь с вами, Константин Филиппович! Да на что нам дачи и машины! – восклицала Юлия Карповна. – Пашу все равно не вернешь. Мне бы только Анюту на ноги поставить. А нам с Абрамовной и не надо ничего.
– Вот и переезжайте. Вам управляться будет легче, и мне веселей. Пожалейте, опять же, старика. А то, бывает, домой приду, и хоть с тоски вой. Иногда так у себя в институтском кабинете и ночую, – посетовал Аделаидов, и не соврал. Дома, считай, у него никакого не имелось с той поры, как погиб сын, была лишь квартира. А это далеко не одно и то же.
В общем, Булавиновых академик сговорил на переезд. И уже весной в их «двушку» на 16-ю Парковую въехал тихий кандидат наук с семейством, которого Аделаидов выписал из Свердловска для государственных нужд. Кандидат застенчиво и безропотно согласился на плату в пятьдесят рублей, смехотворно низкую для нынешней Москвы, но Юлия Карповна находила ее непомерно высокой для небогатого, обремененного двумя детьми научного сотрудника, и оттого все в квартире оставила, как есть, даже посуду не взяла. Да и не нужна была Булавиновым никакая посуда. В доме академика всего хватало, а с переездом рачительной Юлии Карповны стало хватать еще больше. Первым делом Анечкина мама рассчитала заворовавшуюся и в конец обнаглевшую домработницу Тасю, которая наоравшись и наговорив гадостей вволю, ушла, прихватив все свои пять чемоданов и портативный телевизор из кухни. А вскоре и вовсе вышла замуж за продавца из соседнего овощного ларька, давнего своего любовника. Ну и бог с ней. Неужто три женщины, пусть даже одна из них совсем старушка, не справятся с академиковым хозяйством! Да и как бы это выглядело? Сидели бы, словно три барыни на чужих хлебах, а перед ними бы прислуга поломойничала. И Юлия Карповна взяла домоводство в свои руки.
Вскоре быт Аделаидовых-Булавиновых пришел в равновесие и сам собой «устаканился». Анечка приняла на себя магазины и уборку. Юлия Карповна – кухню и уход за академиком. Бабушка Абрамовна – просмотр передач и газет, для ежедневного резюме новостей Константину Филипповичу. Академик Аделаидов в кабинетах более не ночевал, теперь ему уж было куда идти. После трудового, руководящего дня его ожидал дом, а в нем накрытый заботливо к ужину стол, а за столом целых три женских лица, благожелательно настроенных для общения. И академик общался, рассказывая сам о вещах высоких, понятных отчасти одной лишь Анечке, слушал со вниманием жалобы бабушки Абрамовны на донимавшие ее болячки, и новости из больницы на Яузском бульваре, куда после переезда устроилась работать на полставки Юлия Карповна. Ибо теперь Булавиновы проживали не где-нибудь, но в высотке на Котельнической набережной. С уборщицами и лифтерами.
Так они и жили. А Вилке в их жилище ход был строго заказан, и не кем-нибудь, им самим. Хотя Анечка не раз и не два пыталась Вилку вразумить и даже со слезами просила не дурить более.
– Что ты себе в голову вбил, глупый ты человек? – кричала ему Анечка, и глаза у нее были, что называется, «на мокром месте». – Подумаешь, Борьку он терпеть не мог. Как будто я его обожала! Константин Филиппович здесь причем? Несчастный, одинокий старик. Мы вот живем у него и ничего. Ведь это мой папа, не твой, его когда-то обманул.
– Ань, ты пойми, ну не могу я! – кричал Вилка в ответ, и то был воистину крик души.
– Ты же обещал никогда не уходить? – с укором напоминала ему Анечка.
– Я и не ухожу. Можно встречаться у меня, или собираться у Зули. Можно в кино пойти или в зоопарк, хоть куда. Только ТУДА я приходить не могу, – отвечал ей Вилка страдальчески, но твердо и бесповоротно.
– Ну, почему? Почему? Как будто ты виноват, что Борька умер? – вопрошала сквозь слезы Анечка, и сама не ведала, что говорила.
Именно, потому, что виноват. Вилке ли не знать об этом. И с каким сердцем теперь ему пересечь академиков порог? Да он в глаза Аделаидову не смеет посмотреть. И не важно, что Константин Филиппович не знает правды о той давнишней истории, а и узнай он, то вряд ли бы поверил в подобную небылицу. Чего-то в нем не хватало такого, что было у папы Булавинова, Вилка это понял с первого раза, когда увидел Аделаидова зимой на похоронах. Зуля Матвеев, конечно же, демонстративно принял Вилкину сторону, и тоже отказался ходить в гости на Котельническую, заумно мотивируя свое, а заодно и Вилкино поведение высшими этическими принципами, призванными на пустом месте прикрывать их страшную тайну. Анечке пришлось уступить и смириться.
А Совушкин свою удачу спустил окончательно до последнего ломанного гроша. Вилка и Зуля за тем проследили сторонними наблюдателями. Образ кумира окончательно дискредитировался печатью, предавшей гласности одиозные выходки вчерашнего всеобщего любимца, а после особенно безобразной попойки Совушкин и вовсе был отстранен от эстрадного пирога. Впрочем, успокаивал свою взбрыкнувшую было совесть Вилка, так оно и случилось бы в естественном порядке вещей, ведь он, Вилка, не сделал Рафаэлю ничего плохого, лишь перестал делать хорошее. Ничто не мешало лидеру «Пирамидальной пирамиды» творить далее личное благополучие собственными же руками. Ведь сотни иных успешных талантов обходились как-то без помощи вихря Вилима Мошкина.
Но не одни только Рафаэли Совушкины, переезды и тайны занимали место в повседневном бытии трех друзей. Аня, Вилка и Зуля имели еще одну, важную заботу. Школьная опека над ними близилась к своему естественному концу, и надо было определяться далее. Для Вилки ясность в этом вопросе наступила давным-давно, иных планов, кроме механико-математического факультета он и не строил. К вящему довольству Барсукова, который уже на всякий случай шустрил для подстраховки среди предполагаемых членов приемной комиссии, к коей он сам имел косвенное касательство, на правах партийного руководителя вникая в личные дела и характеристики будущих студентов. Анечка из солидарности, а скорее просто из нежелания расставаться со своим верным Лепорелло, поступала туда же, и всячески препятствовала неугомонному в заботе Аделаидову «позвонить, кому следует». Глупости какие, она вполне справится сама.
Полной неожиданностью стало для них решение Матвеева. Экономический факультет.
– Зуля, да ты в уме? – воскликнул изумленный Вилка, как только Зуля огласил ему и Анечке свое непересказуемое решение. – Бухгалтерия – бабское дело. Ты же прирожденный математик, ты шахматист, наконец!
– Современная экономика и есть математика, а шахматы здесь совсем посторонние, – внушительно проворчал в ответ Матвеев, – и это не бухгалтерия. Что же касается баб, то чем их больше, тем лучше.
– А как же Лена? – со смешком спросила Анечка.
– Лена – это Лена. К тому же она на вычислительную математику и кибернетику собирается. Ее факультет в том же корпусе МГУ, что и мой. Считай, соседи. И не спорьте, я решил, – сказал Матвеев, достоинства в его голосе еще прибавилось.
– Ну-у, вот, – огорченно протянул Вилка, – собирались все вместе, а теперь ты вдруг в счетоводы намылился. Смотри, не пожалей потом.
– Не пожалею, – уверенно произнес Зуля, и бросил вызов:
– Грядущее время покажет, кто из нас дальновиден и прав.
Но дело было совсем не в правоте и желании Зулей экономических успехов и свершений. Вернее, дело было не только в них. Пристегнуть себя еще на пяток лет к красавице и ее чудовищу казалось ему верхом неосмотрительной глупости. Разумная дистанция совсем иное дело. Вроде бы друзья по-прежнему, но и каждый при своем интересе. Не хватало ему соревнования на одном и том же поле деятельности! Он, Зуля куда способнее в естественных науках, чем его дружок-монстр. Не дай то бог статься зависти и соперничеству. Заболит у чудища головка, и привет Матвееву из загробных далей. А так Зуля вроде и около, но в то же время не слишком, и ежели что – успеет случиться поблизости и быть, что называется, в курсе событий. Да и в экономический факультет Зуля верил. Глаза держал открытыми и ушки на макушке, слушал разговоры отца и его приятелей-деляг, носом чуявших перемены, к тому же сам Яков Аркадьевич к решению сына отнесся донельзя одобрительно, видел толк и перспективу. Дед Аркаша намерения внука никак прокомментировать не мог, ибо уже год, как покоился на Ваганьковском кладбище.
Они, конечно же, поступили. Все трое. Вернее, четверо, если считать и глупышку Торышеву. И каждый туда, куда хотел. Хотя попсиховать пришлось. Корпя в аудитории над вступительным сочинением, Вилка, плавающий в море синтаксиса и грамматики без руля и без ветрил, разом потерял веру и в себя, и в страховочные обещания Барсукова, и в заранее хитро припасенные шпаргалки. Счастье и спасение для Вилки в эти экзаменационные часы были лишь в Анечке, трудившейся рядом над образом Печорина и не покинувшей друга на тонущем литературном корабле. Написать работу за Вилку у нее само собой времени не имелось, но вот проверить и подправить его испуганные черновые каракули Анечка успела, чем, в сущности, отвела угрозу «неуда».
Когда же вывешенные на факультетах списки украсились их фамилиями, отмечать событие обе пары отправились на Октябрьскую, в известную своими блинчиками «Шоколадницу». Потратили целое состояние в десять рублей и объелись до отвращения к любого рода пище.
Последний, оставшийся от лета месяц каждому предстояло провести по-своему. Анечка в составе ее нового, объединенного семейства отбывала на «казенную» дачу. Зулю отец премировал дефицитной поездкой в дружественную Болгарию, куда Зуля и уехал вместе с мамой Вероникой Григорьевной. А Вилку ждало путешествие к Черному морю, в ставший почти родным за эти годы студенческий «Буревестник». Впервые он ехал не просто как пасынок факультетского начальничка, но как будущий полноправный первокурсник, настоящий «мехматовец». То есть был он ныне не «сын полка», а утвержденный списком рядовой. Вилка остригся в лето под «ежа», подумав про себя, что будь жив папа Булавинов, то непременно посоветовал бы ему в противовес отпустить бороду. В «Буревестнике» Вилку и настигло неминуемое в его жизни событие.
Барсуков и ранее предоставлял Вилке в южных краях почти ничем не ограниченную свободу передвижений, а в нынешнее лето, будучи особенно расположенным к пасынку, вовсе милостиво позволил самостоятельное существование, и даже дал двадцать рублей на расходы. Викентию Родионовичу было чем гордиться и хвастать перед коллегами: Вилка оправдал все его надежды и не уронил честь Барсукова в грязь, поступил и с хорошим проходным баллом. Викентий Родионович даже успел от себя партийную рекомендацию соорудить, с целью определения Вилки для начала в комсорги группы.
Кое-кого из отдыхавших студиозусов, преимущественно старшекурсников, Вилка узнал еще по прошлым визитам в «Буревестник», со многими тут же познакомился заново. Место было старое, обжитое, Вилку помнили и раздатчицы в столовой и даже торговки, что из года в год предлагали неподалеку пиво и квас. Однако в компаниях на Вилку смотрели уже по-иному. Как на полноправного, хотя и низшего чина студенческой корпорации.
В этот раз Вилка как-то само собой прибился к развеселым и немного ему знакомым «мехматовцам»-четверокурсникам. Бесшабашные эти ребята приняли его к себе на правах младшего братишки и знающего старожила с выгодными связями на пункте питания. Верховодил в их кругу смешной и крепко выпивающий очкарик Лева Туробоев, умница и сквернослов, который, потребляй он поменее алкоголя, имел бы полное право на звание «ботаника». Трое парней и две девушки, да плюс Вилка, вот и вся их гоп-компания, небольшой, но очень сплоченный коллективчик, со знанием дела убивающий предназначенное к отдыху время. Вилка без малейшего сожаления сдал свои двадцать рублей в общую копилку и стал равнозначным пайщиком-акционером всех вечерних посиделок и дневных «пивных» походов. Правда, сам Вилка спиртным не злоупотреблял. Пиво еще туда-сюда, пригодился и опыт, обретенный на Зулиной кухне. Но от водочных подношений Вилка отказывался решительно, впрочем, «туробоевцы» не настаивали. Излишек шел к ним в прибыль, а Вилка был, что называется, «выгодным гостем». Иных же напитков, кроме пива и сорокаградусной в их компании не случалось. Однако, спустя несколько дней, стараясь как бы загладить несправедливость, девушки Вика и Ульяна с молчаливого одобрения Левы притащили и пару бутылок сухого грузинского вина в «братишкину» пользу. Вилка нашел вино так себе, но выпил с полбутылки, чтоб не обидеть, к тому же Уля, Ульяна Зелинцева, разбитная и ветреная девица, Вилку подначивала, мол, слабо. С этой Ульяной у Вилки и произошла история.
В тот день, вернее, в тот вечер, в комнате у Левы отмечали день рождения его лучшего друга Ленчика Борзова, за внушительную нижнюю челюсть и выпирающие зубы получившего прозвище Леня-лошадь. Были не только «туробоевцы», но уйма и другого студенческого народа, с самых разнообразных факультетов, забежавшего на праздничный огонек. Кто-то в виде подарка приходил со «своим», кто-то, напротив, в расчете на дармовую халяву. Кто-то оставался на посиделки, кто-то, в честь именинника опрокинув стакан, спертый на время из «столовки», уносился далее по личным надобностям. К полуночи возникла и гитара. У самих «туробоевцев» пение под струнные музыкальные инструменты было не в чести, предпочитали больше магнитофон и западные тяжелые группы, однако, гостя, пожелавшего исполнить ради праздника репертуар КСП, неудобным выходило гнать в шею.