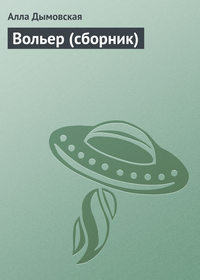Полная версия
Медбрат Коростоянов (библия материалиста)
Наконец, самозваный спонсор хмыкнул довольно и вышел. Мы поспешили за ним. Уже на нижнем этаже он остановился посреди своей и нашей свиты – вспомнил, что забыл. Забыл об антураже. Об официальной причине, якобы сострадательно направившей его к нам. Что-то нужно было сделать, но он не знал что. Мао ему помог.
– Сами видите, уважаемый Николай Иванович. Тянемся изо всех сил. Нам любое лыко в строку, – главный поперхнулся и быстро исправил двусмысленность. – Используем резервы по максимуму, осваиваем средства до рублика. Вот только рубликов тех маловато.
Здесь он обрадовался уже неприкрыто. Мне показалось, чуть было спасибо не сказал Мао за подсказку. Губы его заплясали, пергаментная рука властно рванулась во внутренний карман.
– Заботьтесь, как следует. Ваша миссия благородна, – сказал, и на свет явился золотой зажим, стискивающий в редкозубой пасти зеленую шуршащую пачку толщиной пальца в четыре. Из него в просящую ладонь главного отвалилось много больше половины.
– Вы нас премного выручили. Мы со своей стороны… – жалкий, бедный наш Мао от подступивших слез даже не договорил.
Его и не слушали. Николай Иванович прощаться не стал, вообще не глядя ни на кого больше, прошествовал к выходу. Только бросил коротко своему двуглавому церберу:
– За мной!
Телохранители поспешили распахнуть перед ним монументальную дверь.
– Что это было? – произнес я сакраментальную, расхожую фразу, едва затих рвущий тишину рев моторов.
– Если бы я знал! – вздохнул Мао, но голос его расцветился победными нотками.
– Не к добру оно, – только и сказал дядя Слава. И слова его отгремели, точно высшее пророчество.
Дальше день покатился как обычно. Разве что из полуоткрытого кабинетика главного врача Олсуфьева то и дело вырывались на простор победные вопли предводителя команчей:
– По полтора рубля за квадрат! Скидка на опт! Минус работа! Остаток!.. Алло! Алло! Фановые трубы! Сколько нужно? А сколько есть? Куда там испанские! Наши давайте! Пластиковые, говорите?.. Сюда три рублика, если за погонный метр! Это сколько же выйдет? Ага, и на второй этаж хватит, – считал он, конечно, ни на какие не на рубли. Но слово «доллар» мнилось Мао не эстетичным, особенно в нашем заведении. Да и не привык он ничего считать на эти самые доллары.
Я еще подумал, что стоит зайти к нему, если выдастся свободная минутка. Как бы не обсчитали при случае! Главный, понятно, за долгие годы начальствования, нахватался поневоле изрядного хозяйственного опыта, но то был опыт извечного затыкания прорыва плотины неприличным пальцем. С такой кучей денег, да еще «зеленых», Мао, – честно открою секрет, – дела до той поры не имел.
Дежурство мое в целом шло ничего себе. Лабудур мне не слишком досаждал, все переживал приезд спонсора. О свежих рекламных впечатлениях даже не заикнулся. Его можно было понять: реклама что? Ее каждый день по телеку крутят. А тут живой «новый русский», коих Ивашка наблюдал разве в густо сваренном сериальном «мыле». И оттого представлял себе жутковатого Николая Ивановича кем-то, вроде отечественной выделки Робина Гуда. Я не стал разочаровывать его. Зачем? Дурень думкой богатеет. Ко всему прочему, к Лабудуру я был не вполне справедлив. Дурень-то, конечно, он дурень. Но. Целый день хлопотали мы друг подле друга в общей смене, и ни разу, ни единого разу Ивашка не проявил корыстный интерес. Нет, он знал, разумеется, что спонсор оказался щедрый и отвалил многозначную кучку в валюте, тот еще золотарь! Ивашка знал и мечтал. Что! Вот бы хорошо было, если бы устроить во дворе бассейн, непременно отчего-то с русалкой-фонтаном и выложенный черным мрамором, где он сей чуши набрался – тайна двух океанов. Или, к примеру, наладить в лечебнице собственный кинотеатр – на чердаке полно места, он мог бы выучиться на механика и прибирался бы по совместительству. Или прикупить парочку игральных автоматов, лучше про космические войны, пусть «болезные» радуются, (Ивашка всегда говорил «болезные» и никогда «больные», иначе «пациенты»). Он и сам бы не отказался, хотя и не любит пустодельничать, пробовал однажды подстрелить из электрического ружья кораблик на жетон, дело в большом городе было, в гостиничном вестибюле, но не удалось до конца – швейцар его попер в шею. И ни словечка о премиальных или наградных, или, что неплохо бы хоть малую часть зажать и поделить, это притом, что у Лабудура всегда на уме то же, что на языке, будто у хронически пьяного. Мечты его были от начала до конца пустые и неисполнимые, но в целом какие-то наивно светлые, и оттого я сдерживал невольное раздражение. Чего греха таить, у меня и то промелькнула мысль – может чего перепадет за усердную и скверно вознаграждаемую службу. У меня мелькнула. А у Ивашки – нет.
К ночи, задолбавшись от трудов праведных, я расположился в процедурной, раскладывал среди мутно поблескивающих тушек автоклавов пасьянс «косынку». Самое прохладное место, не считая морозильной камеры, а жаркая духота к ночи добрала пыточной силы. Я давно скинул прочь халат, стянул пропотевшую майку, долой – мягкие, открытые полукеды, затолкал в них и натруженные носки, чтоб не воняли. Сидел с голым торсом и пятками, страдал над «косынкой». Лабудур, наевшись впечатлений и миражей, похрапывал в кулак на скользкой, укрытой желтой клеенкой кушетке. Ему что жара, что хлад, что рай, что ад: будто деревянный, и оттого спокойный – дрых безмятежно. А у меня вдобавок не сходилось, как назло. На что бы ни загадал, пусто-пусто. Загадывал я вещи значимые, и потому мне было обидно, порой и тревожно. Как истовый материалист, не верил я во всякую мистическую чепуху, но почитал без меры теорию вероятностей. Согласно которой, несложный пасьянс давным-давно должен был сойтись. Однако никак не выходило. Мне даже стало интересно, и я немного вошел в азарт. Отклонения от нормы, описанной математически, меня вдруг стали забавлять. Не помню сейчас, сколько я так промаялся дурью, час или два, но от «косынки» меня отвлек неположенный звук у приоткрытой двери. Словно кто-то звал меня шепотом по имени. Кому бы развлекаться в столь позднее время? Верочка, и та ушла домой. Да и не стала бы она окликать, скорее провалилась бы в чулан со стыда.
Я обернулся, что было естественно в тех обстоятельствах, и увидел того, кого увидать совсем никак не ожидал. Круглые, совиные глаза в черном проеме двери, один зеленый, другой голубой. Мотя. Он-то что здесь делал? Пациенты наши были воспитаны в строгости, и по ночам не шастали, хотя никто их насильно не запирал. Однако все равно почитали режим, да и персоналу выказывали уважение. Тем более Мотя. Он вообще не любил ночь и темноту, оттого-то всегда спал у окна, где жестяной навесной фонарь, и даже не позволял до конца задергивать многослойную марлевую штору. Я смёл безнадежные карты в горсть и откинул колоду на угол стола. Потом потихоньку встал и сделал Моте знак – мол, сейчас иду.
Он прильнул к полотну двери, словно укрывшись за ней, держался за ручку-ушко и, как мне показалось, мелкой сыпью дрожал.
– Что вы, Мотя? Не надо бояться, – я попытался успокоить его, – страшные сны случаются от духоты, а сегодня парит. Я дам вам успокоительное. – Сам прикидывал в уме, что лучше? Таблетка феназепама или обойтись настойкой валерианового корня? – Потом провожу вас в палату.
– Не надо успокоительное, – Мотя ответил так брюзгливо и резко, как никогда и ни с кем не говорил до этого. По крайней мере, на моей памяти. – Я пришел спросить.
Здорово! А главное, неожиданно. И то, признаться, когда это Мотю требовалось успокаивать? Кое-кого после общения с ним – это да. Но чтобы самого Мотю! Наверное, даже Ганди не бывал настолько спокоен, как Мотя в своем обычном душевном состоянии.
– Хорошо, спрашивайте, – я понял в ту самую минуту, что пришел Мотя именно ко мне. И не просто пришел. Но, не побоявшись крайне неприятной ему ночной коридорной темноты. Значит, имел к тому вескую причину. – Спрашивайте, – повторил я, будто приглашал к интимной откровенности.
– Тот мертвый человек, кто он такой?
Мотя не уточнил, но я и сам догадался, о ком идет речь. Все же, для верности переспросил:
– Николай Иванович? – надо же, «мертвый человек»! Однако, в яблочко. Не хуже мумии тролля, выдуманной мной.
– Ну, может быть. Тот, что смотрел в столовой. Николай Иванович? – словно бы засомневался Мотя.
– Да, его зовут Николай Иванович. Я больше ничего о нем не знаю, – честно признался я. Недоумевая, какое Моте до всего этого дело?
– Так вы узнайте, – он не попросил, он словно бы приказал мне. Словно бы имел на это непреложное и безусловное право.
– Почему я? – пришлось ответить донельзя снисходительно-миролюбиво, и я отчетливо понял, что впервые обратился к Моте, как в действительности к умалишенному.
– Потому что я не могу, – был мне весь сказ.
Затем он повернулся и пошел. Дергаясь на ходу, как будто шарик перекатывался в мешковатой, фланелевой пижаме. Держал короткие ручки вытянутыми в стороны, точно он чурался сходящихся в длинной коридорной перспективе стен, могущих вдруг его придавить.
– Да постойте же, Мотя! – я сам не знал, зачем окликнул его. Ведь это был бред. Полный бред. О котором я завтра же собирался доложить с утра пораньше главному, пусть обратит внимание и, если надо, примет надлежащие меры. – Зачем узнавать? Вы не ответили мне?
Он обернулся, голос его, обычно напоминавший воробьиное чириканье, отразился эхом и оттого сделался потусторонним:
– Вы не спрашивали: зачем? Вы спросили: почему Я?
– Так, зачем? – я произнес это шепотом, духу не хватило иначе.
– Затем, что быть беде, – он сказал это так просто. А я припомнил тут же пророчество дяди Вали, в иных выражениях, но схожее по смыслу. – И Гения вашего приберите в укромное место. На него может быть охота.
– Что? Что?! Какая охота? В каком смысле, охота? – я зашлепал босыми подошвами по щербатому линолеуму, меня будто несло навстречу Моте, будто я был белый кролик, спешащий в пасть к удаву.
– Охота в переносном значении слова, – ответил недовольно Мотя, как если бы сетовал на мою тупость. – Когда одно человеческое существо пытается добыть другое, преследуя личную цель и не считаясь с личной целью того, кого оно добывает.
– Замысловато, – признался я, уже подобравшись к Моте вплотную. И зашептал, не ради конспирации, кому было нас слушать? Но скорее от накатившей жути. – Подумайте сами, Мотя, для чего мертвому Николаю Ивановичу добывать Феномена, то бишь, тяжело больного пациента Гения Власьевича Лаврищева? На кой он ему сдался? Для опытов, что ли?
– Я не знаю, – сказал Мотя, и сказал честно, я почувствовал это. Общепринятые понятия «правда» и «ложь» были свойственны ему, как сороке понятие о собственности, и лежали где-то вне его сознательной сферы. – Чтобы узнать, надо выяснить, кто такой сам мертвый человек. Я объяснял вам. Иначе никак. Иначе быть беде.
Он повторил настойчиво и с нажимом именно на последнем слове. Как если Мотя хотел подчеркнуть – быть непременно беде и ничему иному, и чтобы я ни в коем случае не обольщался.
– Почему вы обратились ко мне? Почему не к доктору Олсуфьеву? – я спрашивал не для порядка. Придется сознаться и мне, как на духу. Я вдруг испугался. Вдруг поверил Моте и так же вдруг не пожелал иметь с происходящим никакой связи. Пусть мухи и варенье будут далеки друг от друга. Под вареньем я разумел себя.
– Потому что вы из понимающих целое, – это Мотя произнес с куда большим энтузиазмом. Мне показалось, ему приятно было говорить на подобную тему, хотя он явно не собирался договаривать до конца.
– Из понимающих целое, – отозвался я отголоском. А что еще тут было сказать?
– Да. Так. Вы углублялись в то, что здесь называют философической наукой, – подтвердил Мотя.
А мне в тот момент помстилось, что я разговариваю то ли с инопланетянином, то ли с пришельцем из чужого мира. Но было кое-что еще. Определенно, на время нашего разговора Мотя впервые отбросил свою привычную манеру «вундеркинда-недоумка» – я понял внезапно, что давалось ему это прежде с трудом, что приходилось притворяться и не позволять себе свободы, отказывать своему естеству в проявлении. И Мотя больше этого делать не захотел. По крайней мере, со мной. Странно все стало, и чем дальше, тем больше мне делалось не по себе.
Я проводил его заботливо до самой палаты – четвертый номер, и до кровати – у окна, за распахнутой настежь рамой жестяной фонарь. Подождал, пока он улегся – на бочок, стиснул кулачки, но еще не зажмурил крепко совиные глазища. Потому что Мотя опять спросил и не без настойчивости:
– Вы узнаете?
– Да. Я не могу обещать, но постараюсь, – я совсем не хотел, догадываясь уже, что деваться мне абсолютно некуда.
– Не надо обещать, надо просто узнать, – голубой и следом зеленый глаз закрылись.
Надо! Легко сказать! Пока я шлепал обратно до процедурной, определил ясно одну вещь. И не определил даже, но точно увидел без прикрас. Мотя прав и прав во всем. Узнать надо, и это не к добру. Проклятые «зеленые» всем здесь застили, замылили трезвость взора. Трюк злонамеренного и очень прозорливого фокусника из тех, кто создают иллюзии. Ап! В одной руке шляпа. Ап! И пока вы, разинув рты, наблюдаете рой вылетающих бабочек, у вас тащат часы и кошелек. Воровской приемчик, давний, избитый и всегда действенный.
Надо понять про нас еще одно обстоятельство, хорошо видное со стороны, но про которое мы как-то сообща в тот день забыли. Никогда прежде никакие щедрые жертвователи не жаловали к нам в Бурьяновск и конкретно в стационар № 3,14… в периоде. В стационар особенно. Потому, с какой стати? Заведение мы ведомственное, чуть ли не секретное, открытого адреса и расчетного счета не имеем, даже не из самых бедствующих. Не детский приют и не дом престарелых. По-хорошему, нас давно прикрыть бы пора, но видно руки не дошли поначалу, а теперь уж все переменилось. Головной службе мы не в тягость, опять же, вдруг и пригодится с расчетом на будущее. Пригодится, пригодится, как же не пригодится! Подсказывал мне здравый смысл. Психушка для неугомонных всегда пригодится. Такова наша специфика, а отнюдь не загадочный русский дух, который, по сути, не более, как персонаж мифологии.
То-то и оно. А тут тепленький спонсор. Садко – богатый гость. Которого никто не звал. Мне ли не представлять себе усилий, которые нужны, дабы заманить хоть плохонького благотворителя. В нашу-то беспросветную глухомань! Тут пока набегаешься! Никаких ноженек не хватит! Сколько бедолага главный выбивал перевязочные вату и бинты, заметьте, положенные нам бесплатно? Обычные йод и зеленку вымаливал просроченные с соседнего склада воинской части. Да если бы не Мао, нам бы и мыла обыкновенного, хозяйственного не видать! А у нас, пожалуйста, – приличное земляничное, еще из советских запасов. Где Марксэн Аверьянович его раздобыл? Места знать надо! Конечно, не «камей-натюрель», будь оно неладно, но тоже кое-что.
Так, спрашивается, за каким чертом в нашу пыльную глубинку приперся этот гусь? Что ему, слава какая от его доброхотства? У нас не жертвы репрессий сидят. А действительно люди с некоторыми психическими аномалиями находятся на карантине в изоляции. Сами себя изолировали от таких, как мертвая мумия тролля.
Потом, пожертвование его было чересчур щедрое. Персонажам сорта Николая Ивановича подать старушке на хлебную буханку – уже отпущение грехов на год вперед, как они считают про себя. Да еще им пристало любоваться с изощренным нарциссизмом: вот я какой, сусально-сахарный, спас бабушку от голодной смерти. А завтра пусть другой спасает, мое дело не ждет – пока зеваешь, кто иной из-под носа чужое стащит. У той же бабульки на хлеб. Поэтому не жертвуют мумии тролля пригоршнями долларов. Не бывает таково. И никогда не будет. Чтоб в первый приезд, по первому требованию! Не забивать баки пустыми обещаниями, не отбояриваться заманчивыми надеждами, а в итоге – три копеечки, да еще за них накланяешься. Нет, мертвый человек, мумифицированный Николай Иванович, дал сразу. Не дал даже, отвалил… Ба! Что же я такое несу! Осадил я в тот же миг себя. Не отвалил он, но заплатил. А поскольку подобные ему нипочем не переплачивают даже за редкостный товар – отсюда следует: то, что оно искал, стоило много больше. Настолько, что деньги для мумии не имели уже никакого значения. Он и не осознавал до конца, сколько отсыпал! Я вспомнил, с каким выражением мертвого лица жертвовал Николай Иванович, и сразу уверился, что мыслил в верном направлении. Так ищут на грош пятаков. И видимо, свои пятаки или червонцы он нашел. У нас нашел. В кои-то веки! Мощнейшая на одной шестой части суши каверзная корпорация не нашла, а он нашел! Вопрос, что?
Как велел Мотя? (Уже и велел. Но что делать, если аномальные на сей раз оказались прозорливей нормальных?) «Гения-то вашего приберите!» Мол, подальше положишь, поближе возьмешь. На этой мысли я вообще перестал понимать что-либо, теперь-то, по прошествии, можно сознаться. Со всем своим краснодипломным университетским, перестал понимать. Хоть режьте меня! Так я кричал про себя. Я скорее готов был поверить, что некто с тараканьим пастбищем в голове мог заинтересоваться на худой конец юродствующим Ивашкой Лабудуром, чем особой Феномена. Нет и не может быть в нем никакого интереса. А если может, то значит, законы материального мира писаны неправильно, и мы все здесь невежественные кретины до последнего, а правы бабки-знахарки и эзотерики-колдуны. Или не правы и законы, и бабки, все же хватило меня, чтобы сообразить, но происходит нечто, разумом пока необъяснимое или объяснимое не до логического конца. Однако чтобы понять, о чем я веду сей час речь, придется мне, насколько уж смогу, рассказать историю вторую. Персональную. О Лаврищеве Гении Власьевиче, по прозвищу Феномен. Назову ее так.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ДУХАНачалось все тривиальнейшим образом. Двадцать лет назад. Или около того. Короче, задолго до моего появления в Бурьяновске. Он служил прежде доцентом в химико-технологическом, занимался какими-то полимерами, вроде бы жидкокристаллическими. В общем, чем-то для того времени обалденно передовым. Он не был гением, в буквальном значении, просто такое имя. Данное, то ли претенциозными родителями, то ли безграмотными, позарившимися на красивое словцо. А может, неумными шутниками. Гений Власьевич, да еще Лаврищев. С точки зрения аллитераций звучит, может и неплохо, но если вдуматься, то ребенка еще в детстве запрограммировали неудачником-параноиком. Представьте себе, что вас самих выкликают по фамилии Лаврищев где-нибудь в средней школе. Учитель или тренер в спортивной секции, или инспектор по делам несовершеннолетних (тоже может быть, ничего удивительного). Он вам – Лаврищев. А за спиной хулиганствующий приятель – Дрищев! И пошло-поехало. Плюс неадекватное имечко, получилось бы что-то вроде: Геня Дрищев! Шикарно. Особенно для раннего подросткового суицида. Про девушек и танцы сразу можно позабыть. С таким танцевать не пойдут. Но если еще очки и шаркающая походочка, то мальчик для битья в полный рост перед вами.
Потом вообразите, поступили вы в ВУЗ – еще бы не поступили, за одно ваше прошлое полагалось в виде премии протирать штаны в «ботаническом» питомнике. Желательно по теоретической части. И вот вас уже при всех, при дошлых студентах и хихикающих студенточках, именуют Гений Власьевич. Кондрашка хватает, да и только. То ли от сохи, то ли от «швондеров»: из интеллигентствующей публики с таким похабным имечком не выходят. А если вы ко всему прочему не гений? Звучит и вовсе как издевательство, особенно в ученой среде. Разве закрепиться в профсоюзных деятелях, но и оно сомнительно, при тогдашней конкуренции вокруг скудных благ мирских.
Любой бы спятил. И я его очень хорошо понимаю. Однако наш Геня Дрищев не спятил, совсем наоборот. Он как бы зациклился. Семьи у него не было и не предвиделось в обозримой перспективе, зато светила докторская, а за ней, чем черт не шутит, к пенсии и член-корреспондентское избрание. Потолок не из самых низких. Тем более для не-гения. Хотя доцент Лаврищев оказался не без талантов. Да и куда ему было деваться, бедняге? Он умел выворачивать проблемы и задачи наизнанку. Насколько я понял из краткого экскурса в историю Феномена, услышанную однажды из уст нашего главного. То есть, он не умел их ставить, совершенно, не умел зреть в корень, обобщать в теорию и пророчить генеральную линию развития. И уж конечно, не парил среди светил. Но он обладал редкостным даром взять уже сформулированную проблему и добавить к ней такое решение, которое не только не имело ни малейшего отношения к сути, но и перекраивало постановку вопроса совершенно на иной лад. Скоро вы поймете из собственного примера жизни Феномена, что я имею в виду.
Его стали чураться. Коллеги и младшие преподаватели. Им не нравился его мир наизнанку. С которым непонятно, что делать. Сначала пустили слух, потом с леденцовой улыбкой потребовали справку. Потом было освидетельствование, и что-то там такое он им сказал, в своей манере сальто-мортале и с ног на голову, то ли о научном коммунизме, то ли о социалистическом обществе. Ну и тесты, само собой. Как я уяснил себе, тесты еще сошли бы ему с рук, но вот социалистическое общество пожелало остаться в неприкосновенности. Даже для гениев. Он был беспартийный и вообще какой-то совершенно безбилетный, поэтому с ним поступили мягко. Сослали в наш стационар. С концами.
Мао нравилось слушать его речи. Мне они казались околесицей, но только казались. Не стану оправдываться, многого я не знал, как не знаю и сейчас. Органическая химия не моя стезя. Как, впрочем, и любая другая. А Гений Власьевич именно ей и занялся. Насколько это можно было делать в стационаре для душевнобольных. Примитивные реактивы, наивные до детсадовости опыты на себе, да и какие опыты – главный ничего страшнее английской соли Феномену в руки не давал. Зато и новое его прозвище прижилось. От любимой его присказки – все в реальности есть феномен духа и его превращение. Вот превращениями он как раз и увлекался.
Пока не заболел. Саркомой Юинга, очаг – поясничный отдел позвоночника. Несколько поздновато по возрасту, но известно много исключений. Мао тогда сразу же принялся хлопотать о больнице. Он был привязан к Феномену, от души желал его спасти. Но Гений Власьевич наотрез отказался. Никуда он не поедет и точка. Потому что, никакое лечение ему не нужно. Он вообще не болен, а то, что с ним происходит – это его же собственных усилий плод. После такого заявления даже сердобольная Верочка, видевшая во всяком безумце святого, перестала сомневаться в ненормальности Феномена. Еще бы, покажите мне хоть одного здраво мыслящего человека, который добровольно бы захотел поболеть некоторое время костной саркомой. Это даже не сюжет для фильма ужасов, потому что в подобное никто не поверит ни на единую секунду, а только смеяться станет неловкой выдумке продюсера.
Мао не знал до конца, как идентифицировать его психическое отклонение. На шизофрению не похоже, паранойя – этого и близко не было, Феномен ничего не страшился, наоборот, был мужествен, как Гагарин. Навязчивая идея – ну, разве так. Может, защитный механизм, психика – она не железная. Сначала имечко, потом пропащая жизнь, а в конце жирная черная точка – костная саркома. Мао решил, хочет Феномен умереть в своей постели – а как иначе, стационар наш ему уже стал как дом родной, – пожалуйста. Он противиться не будет. Из персонала никто тоже не возражал, язык не повернулся. Разве один Кудря, мой давний напарник, сказал, что ему, мол, не по себе. А кому по себе? По себе – это в коммерческой пластической хирургии, и то не всегда.
Но это оказалось только начало. Заявление Феномена – он, дескать, болен по собственному хотению. Дальше – больше. Гений Власьевич стал осуществлять какие-то странные манипуляции. Саркома его неизбежно и довольно быстро переходила из стадии в стадию, щедро давала метастазы, он следовал за ней. Спокойный, будто индеец ирокез у пыточного столба. Перво-наперво Феномен наотрез отказался от обезболивающих. Не то, чтобы в нашем богоспасаемом заведении имелся щедрый выбор, но уж морфин ему полагался, и был бы выдан по первому требованию. Однако Феномен терпел. И не просто терпел, но классифицировал эту боль, отмечал каждый взятый ею рубеж, и вроде бы радовался. Рисовал свои отвратительные картинки, чертил загадочные схемы. Мы ему в этом потакали – ничего не поделаешь, здесь уже явное психическое отклонение. Хотя порой смотреть на его судороги и корчи было ужасно. Как и на то, сколь мужественно Феномен переносил страдание. Все это время он следовал диете. Не менее бредовой, чем его упражнения для «направления болевого потока энергии». Он почти не пил жидкости, даже от сердечно любимого чая с хвойным настоем отказался. Что-то мутное производил в своих пробирках, Мао не слишком беспокоился – какое там беспокойство: третья, затем четвертая стадия! Тут, чем скорее, тем лучше. Для всех. К тому же ядам у нас неоткуда было взяться, мы психушка при соответствующей организации, а не ее секретная лаборатория. Феномен принимал невероятное количество кальция, столько, что у нормального человека давно бы выросли рога без всякой неудачной женитьбы. Еще соль и много картофеля, непременно сырого. К пытке болью Феномен словно бы добавлял другую. Пытку едой. Как будто ему первой было мало!