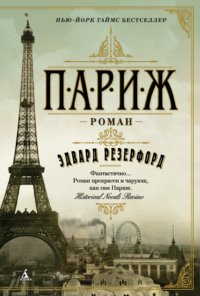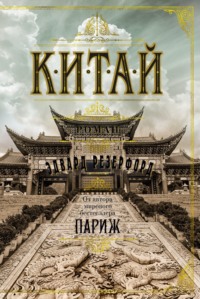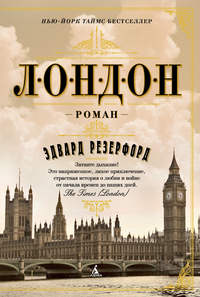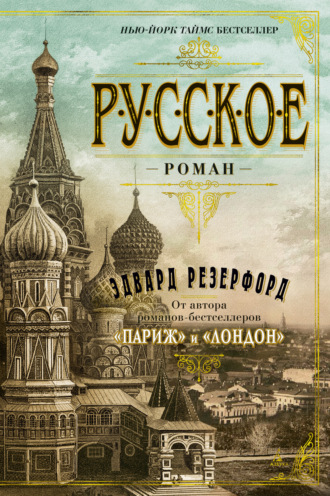
Полная версия
Русское
С тех пор как уехала с юга, она ни разу не слышала, чтобы кто-то обсуждал политические события, а когда пробовала раз или два заводить с Милеем разговоры о том, что творится в мире, тот только посмеивался.
Но все изменилось в тот вечер, когда боярин задал пир.
Пригласил он к себе людей, с которыми вел дела, а ей позволил остаться и прислуживать гостям. К Милею явились человек десять – по большей части люди высокие, дородные, бородатые, в богатых шелковых кафтанах. Некоторые из них носили перстни с огромными сверкающими камнями; один был столь тучен, что трудно было даже вообразить, как он вообще держится на ногах. Были среди них бояре, богатые купцы, а двое, включая человека помоложе, со смуглым, худощавым лицом, принадлежали к числу торговцев средней руки.
Только услышав их беседу, она осознала, сколь богат и велик Новгород.
Ибо они говорили, как взимать подати со своих северо-восточных имений, расположенных в сотнях верст от города, в лесах и болотах. Они говорили о железе, добываемом в болотах, об огромных солончаках, о гигантских стадах северных оленей, пасущихся на границе тайги и тундры. Она узнала, что летом целый месяц в тех северных краях не наступает ночь, а воцаряются бледные сумерки и что глухой зимой охотники на пушного зверя бродят по пустынным просторам почти в полной темноте. Новгородский боярин может владеть обширными земельными угодьями, в которых он даже ни разу не бывал, и получать оброк мехами от охотников, которые проходят пешком сотни верст, чтобы встретиться со сборщиком дани, и никогда в жизни не видели городов, ни больших, ни маленьких.
Воистину, это была земля могучих и сильных, бескрайняя тайга.
Однако, услышав, как они говорят о политике, она была поражена.
– Но вот что я хочу спросить: как решите с татарами? – начал Милей. – Вы подчинитесь им или станете с ними сражаться?
Поднялся ропот.
– Положение наше шаткое, – заметил один пожилой боярин. – Нынешний великий князь долго не просидит на престоле.
Янка знала, что последний великий князь владимирский, отец знаменитого князя Александра Невского, умер на обратном пути из Монголии, куда ездил с унизительным визитом за ярлыком на княжение. Ходили слухи, будто его отравили татары. В том же году ему наследовал его брат, подтвердивший право своего племянника Александра на правление в Новгороде. Однако этого великого князя считали слабым.
– Настоящая борьба за власть, – сказал другой, – будет между Александром и его младшим братом Андреем.
Она слышала о брате Александра Невского, но ничего о нем не знала.
– Вот тут-то мы и посмотрим, кого поддержать, – кивнул старый боярин.
И вдруг как громом поразили ее слова одного из собравшихся:
– А для иных из нас, – произнес худощавый молодой купец, – они оба изменники.
Изменники? Князь Александр, доблестный победитель шведов и немцев, – изменник? К ее удивлению, никто не стал возражать.
– Верно, – со вздохом откликнулся тучный боярин, – Александра и вправду не любят. Люди думают, что уж очень ему по нраву татары.
– А правда ли, – спросил Милей, – что в битве против немцев он выставил татарских лучников?
– Поговаривали, что так, но я в это не верю, – отозвался толстяк, – но не забывай, людям не только претит его дружба с татарами. В этом городе, да и среди наших соседей-псковичей, найдется немало тех, кто с радостью признал бы здесь власть немцев.
Стоило ему произнести эти слова, как воцарилось неловкое молчание.
С тех пор как приехала в Новгород, Янка не раз краем уха слышала, что в то самое время, когда князь Александр побеждал шведов и немцев, псковские бояре действительно поддерживали немцев.
– Знаешь, вернувшись в Новгород, Александр повесил тех новгородцев, которые водились с немцами, – объяснил толстяк Милею, – а потому, если кто и стоит за немцев сейчас, вслух про то говорить не с руки.
На миг тишина за пиршественным столом сделалась уже воистину мертвой.
– А вот молвят люди, – тихо продолжал молодой купец, – что молодой князь Андрей втайне склоняется к католикам, немцам да шведам. Вот и мнится нам, мелким купчишкам, что не найти нигде честного русского князя.
Неужели это правда? Хотя Янка уж на что была проста, а понимала, что князь князю рознь, ей никогда не приходила в голову мысль, что среди них окажутся злодеи, способные пустить русские земли как разменную монету.
Какое-то время пирующие и дальше обсуждали судьбы Новгорода, и каждый рассказывал, каков, на его взгляд, будет наиболее благоприятный исход нынешних событий. Наконец толстяк обратился к Милею:
– Что ж, ты слышал, мы не в силах прийти к согласию. А что ты нам скажешь, боярин муромский?
Все с интересом смотрели на него, пока он важно молчал. Янка тоже застыла в ожидании. Что скажет ее могущественный покровитель?
– Во-первых, – наконец произнес он, – я понимаю сторонников католиков. Вы живете по соседству со Швецией, Польшей и немецкими ганзейскими городами. Они все исповедуют католичество и имеют немалую силу. Точно так же князь галицкий на юго-западе считает, что может избежать татарского нашествия с помощью папы. Но те, кто за папистов, не правы. Почему? – Он обвел собравшихся глазами. – Потому что татары куда сильнее, а папа и католические державы – ненадежные союзники. Каждый раз, когда князь галицкий пытается упрочить свою власть, татары его сокрушают.
Поднялся ропот одобрения. То, что сказал Милей о Галицко-Волынском княжестве, не приходилось оспаривать.
– Новгород могуществен, – продолжал он, – но по сравнению с татарами слаб и жалок. Если захотят, они разрушат ваши укрепления за считаные дни, как это уже бывало во Владимире, в Рязани, в самом Киеве. Вам посчастливилось, что они решили повернуть назад, не успев до вас добраться.
– Татары исчезнут, подобно аварам, гуннам, печенегам и половцам, – возразил кто-то.
– Нет, не исчезнут, – откликнулся Милей. – Хоть половина наших князей так и говорят. Им не по вкусу правда, вот они и закрывают на нее глаза. Эти татары не похожи на половцев. Они создали империю, равной которой не видел мир. А если вы… – он опять замолк, чтобы придать дополнительный вес своим словам, – если вы будете им противиться, они прихлопнут вас как муху.
– Так, значит, – печально спросил молодой купец, – ты думаешь, князь Александр прав и нам надо подчиниться этим язычникам?
Милей поглядел на тощего купца с холодным отвращением, взглядом, исполненным привычного, расчетливого коварства. Янка и прежде замечала это выражение его глаз, но никогда раньше не понимала в полной мере.
– Я думаю, – очень тихо произнес он, – татары – лучшие друзья, какие у нас есть.
– Вот именно, – вмешался толстяк, – я сразу понял, друг мой, что ты человек мудрый.
Янка пришла в ужас. Да о чем он это?
– Конечно, Александр прав, – продолжал Милей. – У нас нет выбора. Попомните мои слова, пройдет всего несколько лет, и они будут править всеми нами. Но не в этом дело. Кто снаряжает караваны с Востока, с которым вы торгуете? Татары. Кто чеканит монету и кто охраняет степь от половцев? Татары. Где наши сыновья найдут прибыльную службу и добычу? У татар, подобно тому как мои предки-аланы служили хазарам еще до того, как появилась Русь.
– А другая возможность у нас есть? Уповать на русских князей? На великого князя, который и пальцем не пошевелил, чтобы помочь Рязани или Мурому, когда их осадили татары?
– Татары имеют большую силу и любят получать прибыль от торговли. Значит, я буду с ними сотрудничать.
Янка побелела.
Снова встала перед ней прежняя картина: мать, падающая под ударом татарина. Потом она увидела татарина без одного уха. Потом своего брата, уводимого по вечерней степи и постепенно исчезающего из глаз.
Выходит, он за татар.
Она не знала. Да и как могла узнать об этом она, бедная славянская крестьянка из крохотной деревушки? Она не понимала, что больше тысячи лет для сарматов, хазаров, викингов и тюрков, приходивших из степи, по рекам и по морю, для этих хищных скитальцев, меняющих мир, русская земля была лишь охотничьими угодьями, а русские люди – холопами, которые будут подчиняться им беспрекословно.
Некоторые пожилые гости с умным видом кивали.
К счастью для Янки, о ней просто забыли, и она тихо стояла в углу, слишком потрясенная, чтобы произнести хоть слово.
Однако в эту минуту она чувствовала, что блуд, сотворенный с боярином, запятнал ее куда страшнее, чем кровосмесительная связь с отцом, даже когда она низверглась в бездну отчаяния.
Ровно неделю спустя она стала подозревать, что забеременела.
Она ничего ему не сказала. Она ничего никому не сказала. В любом случае ей не с кем было поговорить. Но что ей оставалось делать? Поначалу она не знала, как поступить. Она каждый день бродила по Новгороду, пытаясь что-то придумать.
В поисках тихих мест, вдали от суеты и шума узеньких улиц, она побывала в монастырях на окраине города и княжеских охотничьих угодьях к северу от Новгорода. Она неплохо изучила город.
Однако чем лучше она узнавала Новгород Великий, тем меньше он ей нравился. Даже в близлежащем Юрьевом монастыре, где ждала увидеть тихую обитель, она обнаружила огромный, приземистый собор, столь надменный и суровый, что внушал едва ли не страх.
Точно так же, войдя в церковь, освященную во имя тишайших и смиреннейших святых, Бориса и Глеба, она оказалась в большом, богато украшенном храме, в дальнем конце которого были установлены пышные дубовые гробы знати. Какая-то старуха сказала ей:
– Церковь эту построил Садко, купец былинный. – А когда Янка окинула взглядом величественное убранство церкви, старуха добавила: – Да, богат был, благодетель наш.
С каждым днем Янка убеждалась в том, что единственное, что имеет в Новгороде вес и значимость, – это деньги.
Не только на рынке, где ей часто приходилось бывать, но и на постоялом дворе, на улицах, с кем бы она ни заговорила, всякий оценивал своих соседей только в зависимости от того, богаты они или нет. «Да я же не человек для них, – осенило ее. – Цена мне – две монетки». И наконец этот жестокий, непреклонный мир ей опротивел. «Здесь мне нет места, – решила она. – Я не хочу здесь оставаться».
По обязанности ублажать боярина ночью и соприкасаться с этим жестоким, торгашеским миром днем было нелегко. Она старалась, как прежде, воображать себя белой березкой, сопротивляющейся натиску ветра и снега, но это более не помогало. Когда она ночью закрывала глаза и пыталась представить себе такую березку, деревце казалось ей далеким и жалким. Днем Янке было тошно и тоскливо, а ночами она преисполнялась отвращения к самой себе. Нигде не было ей спасения.
Иногда она приходила в малые церковки, не столь величественные, как главные соборы. Таких в Новгороде было много – и деревянных, и каменных. Маленькие каменные церкви отличались особой красотой. Новгородские зодчие не только полюбили устанавливать кресты на куполах, как часто делали теперь на Руси, но и нередко изменяли форму старинного византийского купола. Вместо привычного широкого навершия, напоминающего перевернутое блюдце, они теперь заостряли купол, и храмы увенчивались неким подобием шлема. А иногда – и того пуще – делали «шлем» выпуклым, пузатым, и потому купола казались большими сверкающими луковицами.
Существовали и малые копии соборов, с главным храмовым пространством наверху и меньшим, подвальным, внизу, где служили в холодное время года. Однако многие из этих каменных церквей построили на свои средства бояре и купцы – вроде тех, что пришли на пир к Милею в тот вечер ужасных, невыносимых откровений. Вместо хоров, с которых надменно взирали сверху вниз на подданных князья, на верхних этажах этих новгородских храмов по углам выгораживали отдельные помещеньица, где могла молиться семья купца-основателя церкви. Бывало также, что изображение дарителя, пожертвовавшего деньги на строительство храма, темноликого, с бородой, сурово, но самодовольно смотрело на прихожан со стены.
Возможно, причиной тому было Янкино состояние, но вскоре и эти церкви стали казаться ей отталкивающими.
А она ведь еще и носила боярского ребенка. Что же ей делать?
Она не сомневалась, что отец позаботится о своем дитяти. Но что будет с ней? Где же ей жить? Сможет ли она вообще выйти замуж? Хотя замужние женщины в славянских деревнях могли иногда предаваться блуду после длившегося всю ночь хмельного пира, любой мужчина, обнаруживший, что взял за себя не девственницу, считал это позором. Узнав об этом, соседи могли в знак презрения вымазать смолой его ворота. У незамужней женщины с ребенком была незавидная судьба.
Так или иначе, она теперь ненавидела Милея, а ребенка ждала от него.
К своему собственному удивлению, она обнаружила, что думает о будущем ребенке совершенно равнодушно. Затеплившаяся в ней жизнь принадлежала Милею и этому большому городу. Она только носила это бремя против своей воли. Она хотела сбросить эту тягость и бежать прочь из Новгорода куда глаза глядят.
«Не надобно мне его, – часто шептала она. – Не надобно, а дитя привяжет меня к нему».
И все же, хотя гнев и кипел в ней, какая-то часть ее души жаждала родить, а еще Янка понимала, что чем больше времени проходит, тем ужаснее будет избавляться от ребенка.
Иногда она сама не знала, чего хочет. Она либо бродила в одиночестве, ко всему безучастная, либо сидела одна, уставившись в пространство.
Милей, почувствовав, что ей неприятно его общество, но не потрудившись узнать причину, просто посылал за ней все реже.
Она наконец приняла решение изгнать плод.
Но как? Она знала, что иные женки прерывали беременность, спрыгнув с высоты. Но почему-то ей не хотелось даже пробовать. Так что же делать? Два дня бродила она по городу, надеясь, по Господнему произволению, поскользнуться на льду, упасть и так вызвать выкидыш. Она ходила молиться перед самой почитаемой новгородской иконой – Знамение Божией Матери. Но хотя эта икона когда-то спасла город от суздальцев, Богородица не снизошла к Янкиным мольбам. Наконец в отчаянии она принялась бродить по рынку, думая найти кого-то, кто мог бы ей помочь.
И через две недели ей удалось найти старуху с бородавкой на руке и жестким, неулыбчивым лицом, продававшую сушеные травы на маленьком прилавке возле реки.
Когда Янка объяснила, что ей требуется, старуха не выказала ни удивления, ни негодования, а только окинула ее внимательным, холодным взглядом маленьких карих глазок:
– И на каком ты месяце?
Янка сказала ей.
– Хорошо, но тебе придется заплатить.
– Сколько?
Старуха минуту подумала.
– Две гривны.
Янка ахнула, ведь это было небольшое состояние.
Старуха по-прежнему глядела на нее бесстрастно, ничем не выдавая своих чувств:
– Ну, что скажешь?
– А это точно…
– Плод свой изгонишь.
– А я…
– С тобой ничего худого не случится.
В тот же день Янка достала свой драгоценный шелк, Милеев подарок, и продала его за две гривны.
– Приходи сегодня вечером, как стемнеет, – сказала ей старуха.
Когда солнце садилось над замерзшими болотами, она направилась следом за шаркающей старухой по тропинке, огибающей южные окраины города. Слева виднелись избы, справа – закованная льдом река. На западе далекий красный диск погружался в сугробы, исчезая, точно еле слышный вздох; вдоль реки частоколы, на которые упала ледяная тень, на фоне красного неба казались иссиня-черными, как вороново крыло.
Старуха подвела Янку к маленькой избе в конце узкой улочки. Возле избы был выстроен небольшой сарай. Она открыла дверь и поманила Янку. Внутри стояли какие-то мешки, стол, заставленный горшочками с травами, от которых исходил странный запах, и одна-единственная скамья. Было холодно.
– Посиди здесь и подожди, – велела Янке старуха и пропала.
Вернувшись, она принесла ушат и поставила его перед Янкой. Потом снова куда-то ушла.
Возвратилась она не скоро. На сей раз она притащила ведерко кипятка, которое и вылила в ушат. Над ушатом поднялось облачко пара. Старуха принесла еще два ведерка, пока не наполнила ушат наполовину.
Потом она взяла со стола несколько глиняных горшочков и стала выливать их содержимое в воду, помешивая длинным деревянным половником. От непривычного острого и едкого запаха у Янки слезы брызнули из глаз.
– Что это?
– Не твоего ума дело. А сейчас снимай валенки, подними рубаху и становись ногами в ушат, – приказала старуха.
Янка сделала, как ей велели, и тут же вскрикнула от боли. Вода была обжигающе-горячая.
– Привыкнешь, – успокоила ее старуха, вновь заставив войти в ушат. – А теперь стань во весь рост.
Янка выпрямилась и чуть было не упала, согнувшись пополам. Ноги ее пронзила невыносимая боль.
Старуха подхватила ее, поддержала, потом задрала на ней рубаху, обнажив живот.
Внезапно Янка снова почувствовала себя беспомощной, как в детстве, когда отец заставлял ее лечь на скамью. Она едва не задыхалась от едких паров, поднимающихся из ушата. Опустив глаза, она увидела, что не только ее ступни, но даже колени и бедра побагровели.
– Ты меня заживо сваришь, – простонала она.
– Вроде того, – ответила старуха и подлила в ушат еще горячей воды.
Прошло несколько минут. Боль в ногах сначала сделалась глухой, ноющей, а потом они и вовсе онемели. Янка привыкла к запаху, хотя глаза у нее по-прежнему слезились. Когда ей казалось, что она вот-вот упадет или потеряет сознание, старуха позволяла ей опираться на посох. И время от времени все добавляла горячей воды и каких-то неизвестных трав с едким запахом.
Прошел целый час. А потом Янка лишилась чувств.
Придя в себя, она обнаружила, что старуха натирает ее ярко-красные ноги какой-то мазью.
– Какое-то время поболят, будто ты их ошпарила, но страшного ничего тут нет, – невозмутимо сказала она.
– А… дитя?..
– Приходи ко мне на рынок послезавтра, на закате.
На следующее утро Янка проснулась поздно.
А еще через день, как велела старуха, она пришла к ее маленькому прилавку. Старуха посмотрела на нее бесстрастно, непроницаемым взглядом:
– Ну что?
Янка кивнула:
– Помогло. Получилось.
– Я же тебе говорила, – промолвила старуха и отвернулась, утратив к Янке всякий интерес.
Больше в Новгороде делать ей было нечего. Она старалась избегать Милея из страха, что он снова наградит ее ребенком. Но как же ей быть дальше?
Вскоре, когда еще не успели сойти снега, она узнала, что боярин намеревается вернуться на восток. Но куда же ей податься? Она решила, что ни за что не останется в Новгороде.
Как ни странно, несмотря на все, что между ними произошло, она тосковала по отцу, желая увидеть его знакомое лицо. Она не хотела возвращаться к нему и снова поселиться с ним, но мечтала его увидеть. Без него она чувствовала себя совершенно одинокой.
Но на каких условиях она могла вернуться? Готов ли боярин содержать ее? Или он просто бросит ее в каком-нибудь маленьком городке или на придорожном постоялом дворе, а сам как ни в чем не бывало поедет дальше? Гадать о том она не могла, а напрямую не спрашивала, поскольку и сама не понимала, чего ей хочется.
Именно в эти дни она открыла для себя спасительный приют. Произошло это спустя три дня после того, как она изгнала плод.
Этим убежищем стала для нее церковь, но не пышная, не величественная, не каменная. Располагалась она в Гончарском конце Софийской стороны и возведена была исключительно из дерева. Освятили церковку во имя святого Власия.
Христианская церковь, снисходя к простым людям, с мудрой терпимостью относилась к обычаям и привычкам новообращенных язычников – славян и финнов. Святой Власий покровительствовал животным. В любом случае этого святого можно было отождествить с древнеславянским богом Велесом, защитником скота, богом богатства и благополучия.
Что-то в этом полутемном деревянном храме с его высокой покатой крышей показалось ей теплым и домашним, согрело и расположило ее к себе. Снаружи церковь походила на высокий сарай, однако внутри она своим низким потолком, темными маленькими иконами и мерцающими свечами больше напоминала нагретую родную избу. Действительно, сложена она была из гигантских бревен и прочна, как крепость. Но священники, старики, напускающие на себя деловой вид, толстухи, терпеливо метущие пол или полирующие лампады и подсвечники, которые стояли повсюду, выглядели дружелюбно. Молясь, иногда по часу или даже более, перед иконой святого Власия, она ощущала, что, может быть, даже в ее никчемном и жалком существовании есть какая-то надежда.
«Господи помилуй, Господи помилуй», – время от времени едва слышно шептала она.
Однажды, отходя от иконы, она заметила высокого священника с темной бородой, который ласково посмотрел на нее и промолвил:
– Отец наш любит всех чад своих, но более всего тех, кто согрешил и раскаялся.
И Янка, чувствуя, что он заглянул ей в душу, ощутила, как на глазах у нее выступают горячие слезы. Склонив голову, девушка быстро вышла из храма.
А всего несколько дней спустя она познакомилась с молодым мужчиной.
На первый взгляд, в нем не было ничего примечательного. Она предположила, что ему года двадцать два – двадцать три, он был немного выше среднего роста, с каштановой бородкой. Скулы у него были высокие, глаза – миндалевидные, карие. Она обратила внимание на его руки, сплошь в мозолях, однако с изящными, сильными, но чувствительными, сужающимися к кончикам пальцами. Ногти у него, в отличие от большинства ремесленников, были аккуратно подстрижены. Вида парень был серьезного и казался несколько задумчивым.
Когда она впервые увидела его, тот тихо стоял у иконы, погруженный в благоговейное созерцание, но стоило ей подойти к двери, как он тотчас же прервал молитвы, и она мысленно улыбнулась.
Он немного отстал, пропустил ее вперед, давая ей выйти первой, а потом догнал и зашагал рядом с нею.
– Ты что же думаешь, нам в одну сторону? – не без лукавства улыбнулась она.
– Со мной безопаснее. А тебе куда?
– В Неревский конец.
– И мне туда же. Там мой хозяин живет.
С ним и вправду было безопасно.
Оказалось, что он раб. Родом он был мордвин, пленен во время набега, когда ему было двенадцать. Звали его Пургас. С пятнадцати лет он служил богатому новгородскому купцу, который отдал его в учение плотнику.
Они расстались у постоялого двора, но перед тем он узнал, что она каждый день приходит в маленькую деревянную церковь, где полюбила молиться.
Поэтому она почти ожидала увидеть его там на следующий день. Однако ее весьма удивило, когда он достал из-за пазухи маленькую игрушку, которую сам и смастерил. Это был крохотный, не больше его руки, вырезанный из березы челнок, с гребцами и с парусом.
Выполнен он был столь совершенно, что на мгновение у нее перехватило дыхание, ведь крошечная резная лодочка напомнила ей работы брата.
– Это тебе, – сказал он и стал настаивать, чтобы она оставила игрушку себе.
В тот день он снова проводил ее до постоялого двора.
После этого они стали часто встречаться. Он всегда был добр к ней, чаще слушал, чем говорил, и вскоре она обнаружила, что ему свойственна какая-то робость, сдержанность, которая пришлась ей по нраву.
Когда они бродили по улицам города, он иногда останавливался, указывая ей какую-нибудь особую деталь, на которую она иначе не обратила бы внимания: умелую резьбу, наличники вокруг окон или просто ту точность и опрятность, с которой были по углам соединены венцы тяжелых бревен.
Янка узнала, что существуют десятки способов рубить избы. Бревна можно было обтесать круглыми или квадратными, их можно было положить так и эдак, при помощи врезок и врубок. То, что для нее виделось бесконечным рядом прочных, довольно грубых деревянных домов, спутнику ее представлялось чередой сложных головоломок, которые он и сам мог решать и которыми можно было залюбоваться, проходя мимо.
– Есть столько способов построить обыкновенную избу, что и не перечесть, – сказал он ей. – И искусным новгородским плотникам все они ведомы.
Однако, хотя он высоко ценил этот город и знал в нем каждый дом, Янка вскоре обнаружила, что Пургас тоскует по родным лесам своего детства.
– Мы жили в лесах, почти на самом берегу Волги, – поведал он ей. И все вспоминал о деревьях и травах своих родных краев. О зданиях и сооружениях он говорил как истинный мастер, но стоило ему упомянуть о своих лесах, как на лице его появлялось выражение мечтательной отрешенности, и она преисполнялась к нему жалостью.
Но самое большое потрясение она испытала на четвертый день их знакомства. Она стала в церкви перед иконой, изображающей Христа, который держал в руках открытую книгу, где были написаны какие-то слова.
– «Судите не по наружности, но судите судом праведным», – вслух прочитал Пургас.
Она в изумлении воззрилась на него:
– Ты тоже умеешь читать?