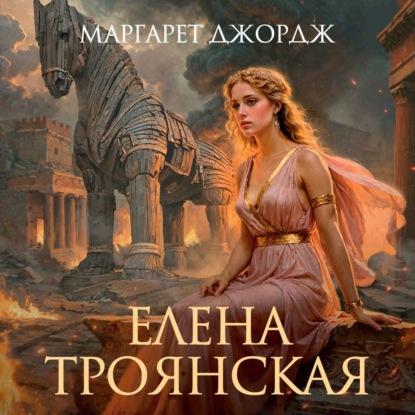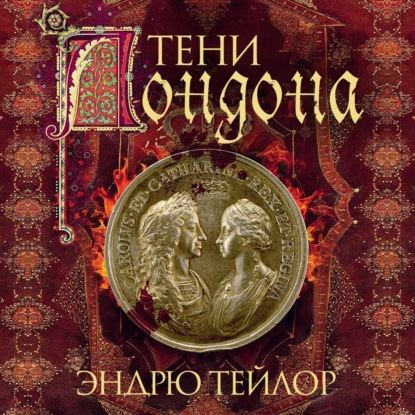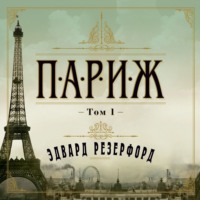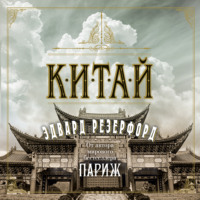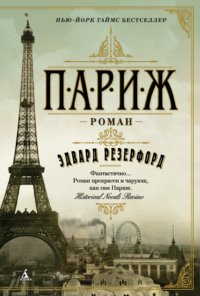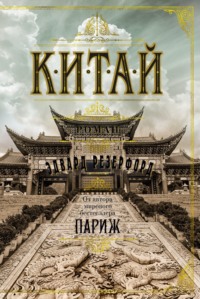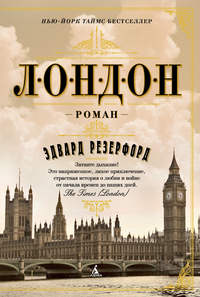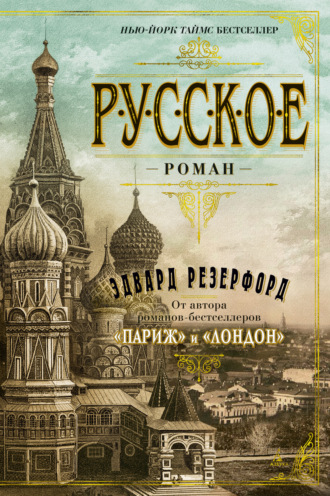
Полная версия
Русское
Чтобы как-то смягчить суровость убранства и обозначить стороны света в здании, на восточной стене были установлены три полукруглые апсиды.
Крышу составляла череда простых цилиндрических сводов, покоящихся на стенах и центральных колоннах, а над ее открытой срединной частью вздымался барабан с лежащей на нем главой. В стенах были прорезаны длинные, узкие окна, а в восьмиугольном барабане под куполом – окна поменьше.
Все внутреннее убранство напоминало обычную византийскую церковь. Все главные церкви и соборы Православной церкви, например Святая София Киевская, с их многочисленными аркадами, опирающимися на колонны, и столь же многочисленными куполами, представляли собой лишь усложненные вариации этого простого архитектурного типа.
Однако при строительстве надобно было решить трудную техническую задачу: как установить восьмиугольный барабан на квадрате, полученном из четырех центральных колонн.
Хотя искусные русские строители, привыкшие работать с деревом, с легкостью могли возвести сколь угодно высокую кирпичную кладку, им предстояло поломать голову над задачей иного рода. Решить ее можно было двумя способами, и оба они были заимствованы с Востока: прибегнуть к так называемому персидскому тромпу, сводчатой конструкции в виде части конуса, напоминающей ступенчатую нишу, или к парусу, или пандативу, сферическому треугольнику, вершиной опущенному вниз, – эта конструкция была изобретена в Сирии восемь веков тому назад.
Это была всего-навсего пазуха сводов, и возникала она, как если бы на внутренней стороне сферы вырезали фрагмент в форме буквы V или треугольника. Отходя кривой линией от несущей колонны, эта буква V своим острым углом могла поддерживать круг или восьмиугольник вверху.
Благодаря этому зодческому решению, столь же простому, сколь и изящному, купол вверху казался воздушным и словно парил над головами прихожан.
Выбирая внешнее убранство церкви, Иванушка взял за образец великие киевские храмы и велел чередовать кирпич и камень, соединяя их толстыми слоями строительного раствора, смешанного с кирпичной пылью, и оттого все здание приобрело мягкий розоватый оттенок.
Внешние края тройных, плавно изогнутых закомар он приказал дополнительно подчеркнуть изящными перекрытиями.
Вот какую маленькую русско-византийскую церковь построил странный, ни на кого не похожий боярин. Она была совсем крохотная – для малой паствы. Если бы в Русском все жители разом решили помолиться в ее стенах, храм оказался бы переполнен. Работы были начаты осенью 1111 года и под неусыпным контролем Иванушки продолжались весь следующий год.
1113В 1113 году разразилось народное восстание. Поводы для недовольства имелись у народа вполне оправданные, и виной тому было тягостное сочетание повсеместной коррупции, сговоров, а еще тем, что властям словно и не было никакого дела, как живет простой народ. И во всем этом участвовали правящие князья.
Спекулятивная скупка и перепродажа товаров, из-за которой погряз в долгах Святополк, все усиливалась. И верховодил в этих сомнительных делах не кто иной, как князь киевский, который с возрастом сделался не мудрее, но ленивее и корыстнее.
От коррупции не было спасенья. Сильные мира сего обрекали крестьян на долговую кабалу, займы давались под несусветно высокие проценты. Мелких ремесленников и смердов повсеместно вынуждали переходить в закупы. В конце концов, раз обзаведясь закупом, заимодавец получал очень дешевую рабочую силу. А если где-то в отдаленных имениях друзья князя пренебрегали законами, регулирующими зависимое положение закупа, и продавали его в рабство, князь закрывал на это глаза. Из-за всех этих злоупотреблений чаша народного гнева переполнилась.
Но более всего возмущали народ тайные сговоры, в которые вступали крупные купцы. Цель их была проста и цинична: получить монополию на торговлю жизненно важными товарами и поднять на них цены. Худшим из зол был соляной картель.
Князь киевский добился в торговле солью немалого успеха. Он намеревался взять под контроль весь ввоз соли из Польши, осуществил свой план, и цены на соль взлетели до небес.
«Нам что же, теперь гостей одним хлебом встречать?» – саркастически вопрошали его подданные, ведь всякий славянин с незапамятных времен приветствовал гостя у себя на пороге, поднося ему хлеб-соль.
Однако князю киевскому не было дела ни до чего, кроме корысти и наживы. Все оставалось по-прежнему.
А потом, 16 апреля 1113 года, он умер.
На следующий день произошло почти неслыханное событие.
За много лет до этого, после беспорядков 1068 года, князь киевский перенес место сбора веча с Подола на площадь у княжеского дворца, откуда легче было следить за ненадежным народом. Кроме того, вече теперь разрешалось созывать только митрополиту или боярам. Но сейчас все препятствия, установленные властями предержащими, были сметены. Ни у кого не спрашивая дозволения, народное вече собралось по своей собственной воле. И проходило оно одновременно бурно и решительно.
«Свободных людей делают рабами», – справедливо заявляли собравшиеся. «Сговоры творят, чтобы нас разорить!» – говорили доведенные до отчаяния о картелях.
«Давайте вернемся к законам Ярослава!» – требовали многие. И действительно, в «Русской правде», своде законов, некогда составленном Ярославом Мудрым и его сыновьями, особо упоминалось, что закупа в раба превращать было нельзя. «Не такой князь нам нужен, – кричали люди, – надобен князь справедливый, князь, который будет закон блюсти!»
Во всей земле Русской был только один такой человек, и потому киевское вече 1113 года пригласило на киевский престол Владимира Мономаха.
«Слава Богу!»
Иванушке казалось, что наконец-то в земле Русской наступит порядок. Когда пришла весть о смерти князя киевского, он находился в Переяславле и, не вызывая даже сыновей из имений, чтобы не терять времени, во весь опор поскакал в столицу.
То, как правил старый князь, уже давно вызывало у него отвращение. В Русском и его северо-восточных вотчинах крестьян не угнетали и соблюдали законы. Однако он знал, что таких вотчин немного. На братьев покойного князя Киевского Иван не очень полагался и думал, что ежели кому из князей и исправлять кривду на земле Русской, то лишь одному – Владимиру Мономаху. И еще думал Иван, что не потому он так считает, что люб ему его князь и покровитель, а потому, что воистину тот достоин его любви.
По прибытии в Киев он обнаружил, что народное вече выбрало того же правителя.
Не успев даже навестить брата, он немедленно отправил одного из слуг к Мономаху с посланием: «Иван Игоревич ждет тебя в Киеве. Приди, возьми то, что по праву предлагает тебе вече».
Потому-то и огорчился Иван, войдя в дом своего детства и обнаружив, что старший брат его чаяний не разделяет, а лишь угрюмо качает головой.
«Ничего не выйдет», – сказал ему Святополк.
Со времен похода против половцев между ними установились ровные, ничем не омрачаемые отношения, и оба были тем довольны. Они не сделались друзьями, но ненависть, снедавшая старшего брата на протяжении всей жизни, точно неугасимое пламя, наконец догорела, рассыпавшись угольками. Святополк чувствовал себя старым и усталым. Благодаря Иванушке он не знал недостатка в деньгах. Жил он в совершенном одиночестве. Сыновья его служили в других городах, он же предпочел остаться в Киеве, где его почитали и как боярина, и – увы, незаслуженно – как оборотистого разумного мужа, добившегося успеха. Но на мир Святополк взирал без особого восторга. «Говорю тебе, – повторял он, – не быть Мономаху князем киевским».
Два дня спустя оказалось, что он был прав, ибо Киева достигла весть, что Мономах отказывается сесть на столичный престол.
В каком-то смысле у него не было выбора. По правилам престолонаследия власть должна была перейти не к нему, ведь существовали старшие ветви его рода, которые и должны были княжить по праву первородства. И потом, разве сам он всю свою жизнь не делал все возможное, чтобы престолонаследие совершалось по закону и никто не нарушал мира? Негоже ему отказываться от собственного обычая, тем более по призыву черни, которую ему, князю, надобно держать в узде? Он не пришел.
А потом началось восстание.
В то роковое утро Иванушка ездил в Киево-Печерский монастырь, проскакав верхом по лесу туда и обратно. Он не догадывался, что город объят смутой, пока, добравшись до Подола, не увидел внезапно несколько столбов дыма, поднимавшегося кверху. Он пришпорил коня и опрометью поскакал к княжескому дворцу. И повстречал торговца, удирающего на телеге из города. Вспотевший и запыхавшийся, тот знай нахлестывал лошадей.
– Что в городе творится? – крикнул Иванушка.
– Убивают нас, боярин, – откликнулся тот, – не щадят ни купцов, ни знать. Поворачивай назад, господин, – добавил он, – туда разве что дурак полезет.
Иван мрачно улыбнулся в усы и продолжил путь, теперь уже по Подолу. На улицы высыпали толпы, люди носились туда-сюда. Возмущение, казалось, возникло стихийно и охватило весь город. Попадались мелкие торговцы, которые закрывали ставнями свои дома и лавки, в то время как другие сбивались в маленькие вооруженные отряды прямо на улицах. Несколько раз он на коне с трудом протискивался сквозь густую толпу.
На какой-то узенькой улочке он столкнулся с двумя десятками мятежников.
– Гляди-ка, – завопил один из них, – боярин! – И они бросились на него с такой яростью, что он едва сумел вырваться и ускакать.
Людские толпы устремились в центр города. Он уже видел пламя, вздымающееся над Ярославовым двором. Им овладела одна-единственная мысль – разыскать и спасти Святополка.
А когда он доскакал до Жидовских ворот, глазам его предстало зрелище, от которого он похолодел и на миг забыл даже о брате.
Впереди запрудила улицу толпа числом не менее двухсот человек. Они плотным кольцом окружили дом. И если все, кого он встречал до сих пор, показались ему либо раздраженными, либо взволнованными, то на лицах этих мятежников застыло выражение жестокости. Некоторые даже злорадно улыбались, предвкушая безнаказанные убийства и мучения тех, кто попадется им в руки.
Окруженный восставшими дом принадлежал старому Жидовину Хазару.
По толпе разнесся радостный гул.
– Подпалим-ка их, – крикнул кто-то.
Толпа одобрительно загудела.
– Жареное порося вертела просит! – весело прокричал какой-то высокий, тучный мятежник.
Иванушка заметил, что некоторые держат в руках горящие факелы.
Злодеи уже готовились поджечь дом, однако было понятно, что они жаждут не столько спалить постройку, сколько выкурить обитателей.
– Мерзавцы! – завопил один мятежник.
– Жиды! – крикнула какая-то старуха.
И тотчас же еще несколько в толпе подхватили этот крик.
– Выходите, жиды, давить вас будем!
Иванушке все было ясно с этими людьми. Многие еврейско-хазарские купцы были небогаты, более того, почти все главы картелей, разоряющих и притесняющих бедняков, были христианами славянского или варяжского происхождения, но кому сейчас до того было дело? Разгоряченная мгновением кажущегося всевластия, разъяренная толпа, жаждавшая крови и мщения, припомнила, что враги их – чужеземцы. А чужеземца можно бить и гнать с полным правом – никто за него не вступится.
Именно в эту минуту, окидывая взглядом дом, Иванушка заметил в окне одно-единственное лицо.
Это был Жидовин. Он отрешенно смотрел на улицу, не зная, что и поделать.
Один из мятежников протиснулся сквозь толпу с длинной, тонкой пикой в руках.
– А ну, кликни-ка своих мужиков! – прокричал он.
– Откуда там мужики – у жидов-то? – откликнулся кто-то, и по толпе прокатился взрыв хохота.
То было правдой: кроме нескольких слуг и старика-хозяина, мужчин в доме не осталось.
– Значит, баб пошли! – проревел все тот же мятежник.
Иванушка собрался с духом и двинул коня вперед, сквозь толпу. Тотчас раздались злобные выкрики:
– Это еще что такое?
– Боярин, чтоб его!
– Еще один душегуб-кровопийца!
– Долой его с коня!
Кто-то вцепился ему в ноги; мимо его лица, чуть было не задев, пролетело копье. Иван хотел ударить ближайших нападавших кнутом, но осознал: одно резкое движение – и ему конец. Медленно, невозмутимо, терпеливо он направлял своего коня вперед, осторожно прокладывая путь, раздвигая толпу. Потом обернулся.
Иван глядел на толпу, а мятежники глядели на него.
И, к своему собственному удивлению, он ощутил новый, неведомый прежде страх.
Никогда раньше не приходилось ему сталкиваться с разъяренной толпой. Он грудью встречал половецкую орду, он неоднократно смотрел в лицо смерти. Но ни разу не обступала его стеной ненависть. Это зрелище вселяло ужас. Еще того хуже, он словно окаменел. Ненависть толпы поразила его, точно целенаправленная, неудержимая сила. Он чувствовал собственную наготу, робость и, как ни странно, стыд. Но чего ему стыдиться? Не было причин для стыда. Да, он боярин, но не сделал этим людям ничего дурного. Так отчего тогда он пред ними словно виноватый? Сила их общей яростной ненависти обрушилась на Ивана, словно мощный удар в грудь.
И тут толпа затихла.
Иванушка схватил удила и ласково потрепал коня по шее, чтобы подбодрить и успокоить. «Как странно, – подумал он, – неужто половцы меня не убили, а от киевлян смерть приму?»
Человек с пикой указывал на него. Как и большинство в толпе, он был одет в грязную льняную рубаху, перехваченную кожаным поясом; лицо его почти полностью скрывала черная борода, волосы падали на плечи.
– Что ж, боярин, говори что хочешь – перед смертью! – воскликнул он.
Иванушка попытался бестрепетно выдержать его злобный взгляд.
– Я – Иван Игоревич, – ответил он громко и уверенно. – Я служу Владимиру Мономаху, которого хотите вы посадить в Киеве. Я отправил ему гонца, от своего имени и от вашего, моля его поспешить на киевское вече.
По толпе прокатился слабый гул. Мятежники явно не могли решить, верить ему или нет. Человек с пикой прищурился. Иванушке показалось, что еще миг – и мятежник ринется на него. И тут откуда-то донесся голос:
– Это правда. Я его видел. Он служит Мономаху.
Человек с пикой обернулся к говорящему, а затем снова к Иванушке. Иванушке показалось, что смутьян разочарован.
Волна ненависти отхлынула от толпы.
– Добро пожаловать, слуга Мономахов, – мрачно приветствовал его мятежник с пикой. – Тебе-то что за дело до наших жидов?
– Они под моей защитой. И под защитой Мономаха тоже, – добавил Иванушка. – Они не причинили вам никакого зла.
Мятежник пожал плечами:
– Может, оно и так. – И тут, почувствовав, что настал миг упрочить свое нынешнее положение уличного главаря, он обернулся к толпе и заревел: – За Мономаха! Пойдем искать других жидов!
Толпа повалила за ним.
Иванушка вошел в дом. Там оставался только старый Хазар да две женщины-служанки. Он пробыл с ними в доме до вечера, когда шум и возмущение в городе несколько стихли. Только после этого отправился в дом брата.
Все случилось, как он и опасался. Мятежники добрались до высокого деревянного терема еще днем. Насколько он мог судить, Святополк не пытался бежать. Предполагая, что боярин куда богаче, чем он был на самом деле, разъяренная толпа убила его, разграбила дом и сожгла дотла.
Иванушка нашел обугленные останки брата, произнес молитву, а потом в спускающихся сумерках вернулся, как и много лет тому назад, искать приют в доме Хазара.
Как странно было спустя много лет вновь оказаться в этом доме и сидеть при свете свечей наедине со старым Жидовином.
Жидовин уже пришел в себя после нападения толпы. А Иванушка, хотя и опечаленный гибелью Святополка, обнаружил, что скорбь его велика, но не чрезмерна.
Они вместе поужинали, тихо обмениваясь немногими словами, однако Иванушка заметил, что старик, хотя и погружен в грустные размышления о событиях сегодняшнего дня, хочет сказать ему что-то важное. Поэтому его не удивило, когда тот, завершая трапезу, внезапно резко сказал:
– Конечно, ничего этого не случилось бы, если бы страной управляли как полагается.
– О чем ты? – почтительно спросил Иванушка.
– Да о князьях русских, – презрительно ответил Хазар, – о дураках этих. Никто из них и ведать не ведает, как построить государство. Нет у них законов, нет никакой системы.
– У нас есть законы.
Жидовин пожал плечами:
– Зачаточные законы славян и варягов. Ваши церковные законы лучше, признаю. Однако вы переняли их у греков и римлян, из Константинополя. Но кто стоит во главе вашего правления, какое бы оно ни было? Чаще всего хазары и греки. Почему народ сегодня взбунтовался? Потому что князья ваши либо нарушают закон, либо не заставляют соблюдать закон, либо просто не принимают законов, которые мешают им бесчинствовать.
– Воистину, нами всегда правили дурно.
– Оттого, что нет у вас законов и системы, и измениться ничто не может. Ваши князья все воюют друг с дружкой, а земля слабеет, и даже порядок наследования не установят, чтоб мир воцарился.
– Но, Жидовин, – возразил Иванушка, – разве не правда, что наследование от брата к брату мы переняли не у северян-варягов, а у тюрков? И стало быть, мы заимствовали его и у вас, хазар?
– Может быть. Но ваши русские князья не способны соблюдать порядок. Уж это ты отрицать не можешь. Разруха, разруха во власти.
Иван с ласковой снисходительностью поглядел на него. Старик говорил дело, но Иванушка не был до конца убежден в справедливости его слов.
Толпа с ее тупой кровожадностью и ненавистью к евреям была ему противна, и все ж таки он невольно думал: «Как же ошибаются эти евреи! Все бы им системы да законы – нет, мы пошли дальше их». Он вздохнул, а вслух сказал:
– Знаешь, законом не все исчерпывается.
Жидовин изумленно воззрился на него.
– Но у вас и того нет, – резко сказал он.
Иван покачал головой. Как же ему объяснить, что его, Жидовина, образ мыслей – неправильный.
Нет, знал Иван систему мира куда лучшую, чем у хазар, – христианскую.
Сам он, пожалуй, не мог найти нужных слов, но это было не важно.
Ибо разве они уже не были произнесены – красноречивее и убедительнее, чем все, что могло прийти ему на ум, в самой знаменитой проповеди, когда-либо прочитанной в русской церкви?
Она была произнесена незадолго до его рождения, но получила такую известность, что уже ребенком он запомнил фрагменты ее наизусть. Эту проповедь великий славянский священнослужитель Иларион прочитал в память Владимира Святого. Он назвал ее «Словом о законе и благодати». А смысл ее был весьма прост. Иудеи дали человечеству Закон Божий. Но затем пришел Сын Божий и принес высшую истину – торжество благодати, непосредственной любви Господней, бесконечно превосходящей любые правила и установления. Именно это чудесное послание новая Церковь и откроет гигантскому миру леса и степи.
Как же ему рассказать об этом старику Жидовину? Имеющий вместить – да вместит, только ведь евреи никогда не примут этого учения.
Но разве его собственный жизненный путь не был паломничеством в поисках благодати? Разве сам он, Иванушка-дурачок, не открыл для себя любовь Господню без всяких сборников законов?
Иванушке не по душе пришелся мир законов, установлений и предписаний, каким видели его евреи. Вся природа его восставала против этого расчисленного мира. По Господней благодати все должно было решаться намного проще.
– Все, что нам нужно, – втолковывал он Хазару, – это мудрый и благочестивый человек, достойный князь, сильный правитель.
Этому средневековому мифу суждено было стать проклятием для большей части русской истории.
– Славу Богу, – продолжал он, – у нас есть Мономах.
Однако перед расставанием Иванушка подарил старику подвеску, маленький металлический диск, который носил на цепочке на шее и на котором был изображен трезубец – тамга клана его предков.
– Пусть он напоминает тебе о том, – промолвил Иванушка, передавая Хазару амулет, – что ты спас жизнь мне, а я – тебе.
А несколько дней спустя, по благодати Господней, князья склонились перед волей веча, и так – благодаря народному бунту – началось правление одного из величайших монархов, которого знала Русь, – Владимира Мономаха.
Радость Иванушки от восшествия на престол Мономаха еще более усилилась, когда той же осенью возведение маленькой церкви в Русском завершили с быстротой, граничащей с чудом.
Он часто приезжал в деревню и оставался там по целым дням, притворяясь, будто проверяет, как идут дела, но втайне наслаждаясь удивительным покоем и миром, царящим в этом местечке.
Но более всего любил он на исходе дня глядеть на эту каменную жемчужину. Каким нежным сиянием облекалась по вечерам церковь, когда лучи заходящего солнца освещали ее розовые стены.
Иван сидел, умиленно созерцая маленькое здание, вопреки обстоятельствам воздвигнутое на поросшем травой холме над рекой, выделяющееся на фоне темного леса, а солнце тем временем медленно опускалось за горизонт.
Не было ли разлито ощущение угрозы, тайной опасности, печали над золотым византийским куполом, когда на нем вспыхивали последние закатные лучи? Нет. Иван полагался на свою веру. Ему казалось, будто ничто никогда не нарушит покоя и безмятежности маленького дома Божьего, возведенного перед дальним лесом, над рекой.
Вся природа, казалось, была исполнена умиротворения в необозримом русском безмолвии.
А еще он иногда думал: как странно, что когда он стоял на берегу возле церкви и глядел в бескрайнее небо над бесконечной степью, то, куда бы ни плыли облака, само небо казалось подобным великой реке, одновременно неподвижной и уходящей вдаль, вечно уходящей.
И легкий ветерок с востока пролетал над землей, едва касаясь.
Глава третья. Татарин
Декабрь 1237Широкое монгольское лицо всадника было настолько обветренным, что приобрело охристо-коричневый оттенок.
Борода и усы его, жидкие, черные, ниспадали отдельными прядями.
Поскольку дело было зимой, он был закутан в пышные меха, а под ними скрывались одеяния тончайшего китайского шелка. Он носил войлочные носки, а поверх них – тяжелые кожаные сапоги. Голову его венчала меховая шапка.
На самом деле ему исполнилось всего двадцать пять, но ветер и непогода, война и лишения, которым он постоянно подвергался в открытой степи, превратили его в человека без возраста.
На поясе у него висела кожаная фляга с перебродившим кобыльим молоком, кумысом, который так любили его соотечественники. К седлу был приторочен мешок с сушеным мясом. Ведь монгольский воин всегда выступал в поход, запасшись всем необходимым.
Среди самого необходимого была и жена: вместе с сыном-младенцем она ехала в гигантском верблюжьем обозе, который перевозил имущество позади войска.
Лишь одним этот воин отличался от других. Четыре года тому назад вражеское копье едва не вонзилось ему в левый глаз, но только глубоко рассекло высокую скулу, соскользнув наискось по щеке и отрезав ему почти все ухо, так что от него остался только неровный обрубок. «Повезло», – заметил он и более об этом не думал.
Звали его Менгу.
Медленно двигалось гигантское войско по замерзшей степи. Как обычно, оно было выстроено пятью отрядами: по два, друг за другом, в авангарде и в арьергарде, с каждого фланга, а пятый отдельно располагался посередине.
Менгу находился на правом фланге. За ним ехала сотня, которой он командовал, легкая кавалерия, где каждый всадник был вооружен двумя луками и двумя колчанами и мог стрелять прямо с седла, скача галопом. Луки были устрашающим оружием: очень большие, составные, с силой натяжения тетивы, равной трем с половиной пудам, то есть более мощные, чем прославленные английские «длинные луки». Их дальнобойность доходила примерно до ста пятидесяти саженей. Как и все его люди, Менгу научился стрелять из лука в возрасте трех лет.
Слева от него ехал отряд тяжелой кавалерии, вооруженный саблями и копьями, боевыми секирами или булавами – что кому было более по вкусу – и арканами.
Сам Менгу восседал на вороном скакуне, и потому в нем тотчас можно было узнать воина Черного отряда – элитной ханской гвардии. В огромном табуне запасных коней, перегоняемых позади войска, бежали и его четыре жеребца, все вороные.
Он был рад тому, что его жена и первенец сейчас рядом с ним. Он хотел, чтобы они стали свидетелями его торжества. Ибо в этом походе он впервые получил под начало сотню воинов.
В основе монгольского войска, как и всей империи, которая из него выросла, лежала десятичная система исчисления. Низшим воинским подразделением считался десяток, далее следовала сотня. Более важные люди командовали тысячей, а темники имели под своим началом тьмы, отряды численностью десять тысяч. Менгу командовал сотней. «К концу этого похода, – обещал он жене, – я стану тысяцким». А к тому времени, как будут завоеваны все остальные западные страны, которые, по словам купцов, простираются до самого края обитаемой суши, он, возможно, сделается даже темником.