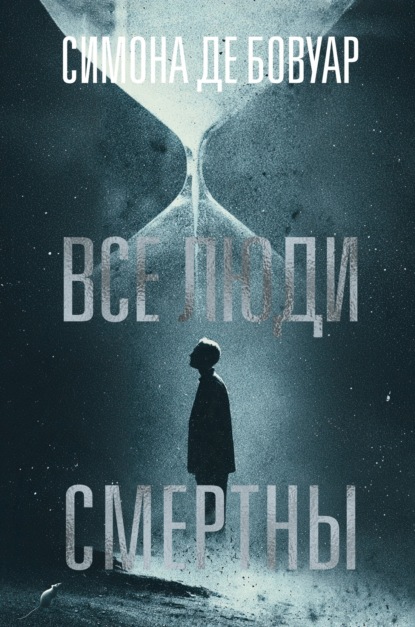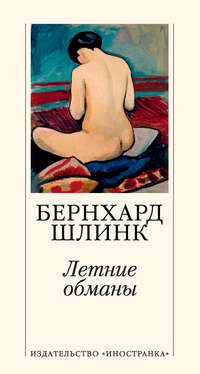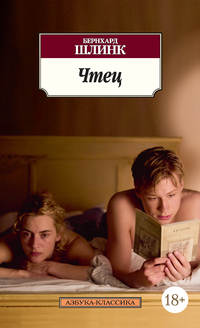Полная версия
Возвращение
Когда я несколько лет спустя влюбился в свою одноклассницу, я уже понимал, что такое красота, любовь и ревность, и за теми переживаниями, которые у меня при этом возникли, совсем затерялся тот опыт бессознательной любви, которую я испытал к Лючии. У меня было такое чувство, что я влюбился впервые. Я даже позабыл про подарок, который Лючия преподнесла мне на прощание.
Утром, накануне своего отъезда, она зашла к нам – мы были в саду, и она по привычке принялась было помогать. Она прощалась с садом, с моими дедушкой и бабушкой; весь день ей предстояло провести со своей двоюродной бабушкой, а наутро времени останется разве что на короткое прощание. Я проводил ее до дома, и она показала мне на дверь в подвал, расположенную со стороны сада: «Приходи сюда в шесть часов, я открою».
Это была дверь в домовую прачечную. Я приоткрыл ее ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, и сразу же закрыл за собой, увидел большой медный котел для кипячения белья, корыта и ведра, стиральную доску и бельевой валек, ощутил запах свежевыстиранного белья. На растянутых веревках висели белые полотенца. Два окна были больших размеров, но сквозь решетки, густо поросшие виноградом, свет почти не пробивался. Вся прачечная словно погрузилась в зеленоватую полутьму.
Лючия уже ждала меня. Она стояла в другом конце помещения, прижав пальчик к губам, я тоже стоял молча и не шевелился. Мы смотрели друг на друга, потом она наклонилась вперед, двумя руками взялась за подол юбки, высоко задрала его и показала мне свою плоть. Она кивнула мне, и я понял, чего она хочет, расстегнул ремень и пуговицы на моих коротких штанишках, спустил их вместе с трусами и выпрямился. Моя плоть еще ни разу не возбуждалась, не пошевелилась она и на этот раз. В отличие от Лючии, у меня на лобке волос еще не было. И все же я стоял перед ней с пылающим лицом и сильно колотящимся сердцем, стоял, полностью охваченный желанием, хотя я и не знал, на что это желание направлено.
Мы какое-то время неподвижно стояли друг против друга. Потом Лючия засмеялась, выпустила край юбки из правой ладони и подошла ко мне. Левой рукой она по-прежнему удерживала юбку вверху, демонстрируя мне краешек голого живота, голые бедра и плоть, и я не мог решиться, продолжать ли мне смотреть вниз или глядеть ей в лицо, которое возбуждало меня так же, как ее нагота. Подойдя ко мне, она правой рукой обхватила мою голову, быстро прижалась губами к моим губам, и мое тело на короткий миг ощутило теплоту ее тела. Потом она повернулась ко мне спиной и выскользнула в другую дверь, ведущую в дом, прежде чем я пришел в себя. Я услышал, как она пробежала по коридору, взбежала по лестнице, а потом открыла и захлопнула за собой еще одну дверь.
11
Не после этого ли события я начал читать то, что было написано на запрещенной стороне верстки? Не пробудил ли роман, который был у нас с Лючией, мою страсть к чтению романов? Или это случилось много позднее, просто от скуки? Во время какого-нибудь очень скучного урока в школе? Или при выполнении скучных домашних заданий? А может, во время поездок на поезде, когда у меня не было с собой ничего другого, что бы почитать? Когда мне исполнилось тринадцать, мама вместе со мной переехала из города в деревню, где она купила скромный домик, и мне приходилось ездить в школу по железной дороге.
В первом романе, который я прочитал, рассказывалось о немецком солдате, бежавшем из русского плена и по пути домой пережившем много опасных приключений. Все эти приключения скоро стерлись у меня из памяти. А вот его возвращение домой запомнилось. Солдат добирается до Германии, он приходит в город, где живет его жена, отыскивает дом, квартиру. Он звонит в дверь, и ему открывают. На пороге стоит жена, такая же красивая и молодая, какой он помнил ее долгие годы, находясь на войне и в плену, нет, она стала еще красивее, и хотя выглядит немного старше, это ей идет, она расцвела, стала более женственной. Однако она смотрит на него без радости, с ужасом, словно он – призрак, а на руках у нее маленькая девочка, ребенку нет и двух лет, а еще одна девочка, постарше, прижимается к матери, смущенно выглядывая из-за ее юбки, а рядом с женой стоит какой-то мужчина, положив ей руку на плечо.
Борются ли эти двое мужчин за женщину? Знали ли они друг друга раньше? Видят ли они друг друга в первый раз? Тот, что обнимает женщину за плечи, – не обманул ли он ее, сказав, что другой, ее муж, погиб? Или, может быть, он выдал себя за этого другого, когда вернулся с войны или из плена? Влюбилась ли в него женщина без оглядки, ищет ли она с ним свое новое счастье? Или она сошлась с ним из нужды, без любви, потому что без его помощи не выдержала бы всех бед, которые ей пришлось пережить как беженке, и не смогла бы начать жизнь заново? Или ей нужен был мужчина, который позаботился бы о ней и ее первой дочери – о первой дочери, которая вовсе не дочь нового мужа, – ее отец стоит тут, на пороге, оборванный, потерявший веру, отчаявшийся?..
Ничего этого я не узнал. Из тетрадки с версткой я давно уже вырвал первые страницы и выбросил их. Первые страницы как раз и были последними страницами недочитанного мной романа.
12
Я хотел дочитать роман следующим летом. Последние страницы отсутствовали, но титульный лист с именем автора и названием сохранился. Я знал, что дедушка и бабушка хранят серию в своей спальне; книги заполняли все полки в узком высоком шкафу.
Я подумал, что отыскать нужный роман будет нетрудно. Обычно сброшюрованная верстка не имела номера выпуска, под которым книга выходила в серии и в соответствии с которым ее ставили на полку, но поскольку верстку этого романа мне дали прошлым летом, а ежемесячно публиковалось по два романа, то я решил, что отыщу роман среди последних двадцати четырех номеров. Однако я ее не нашел. Мне было известно, что бабушка с дедушкой иногда изменяли название романа, и я стал искать книгу по фамилии автора, но и в этом случае мои поиски не увенчались успехом. Тогда мне в голову закралось подозрение, что они изменили не только название, но и фамилию автора, и я стал искать книгу по первым страницам текста. Мне не удалось найти роман ни по названию, ни по фамилии автора, ни по началу. Я стал искать среди книг, выходивших раньше, вытаскивая одну тетрадку за другой, но романа так и не нашел, правда, я проверил не все четыреста номеров. Первая неделя была солнечная, а потом зарядили дожди до самого конца каникул. В саду бабушка и дедушка больше не работали, поэтому у меня не было возможности под каким-нибудь предлогом подняться по лестнице, забраться в их спальню и продолжить поиски.
Следующим летом я об этом романе и не вспомнил. Это были последние каникулы, которые я с начала и до конца провел у дедушки с бабушкой. Мои друзья и подружки совершали совместные путешествия или по школьному обмену отправлялись в Англию или во Францию. Мне предлагали принять участие в совместном велосипедном туре, но, увы, мне это было не по карману. Хотя я вот уже полгода как разносил журналы и неплохо зарабатывал, лишних денег у меня не было. Мне приходилось самому тратиться на одежду и книги; моя мама залезла в долги, купив собственный дом.
Я был расстроен, что не мог отправиться в поездку с товарищами, но в то же время я радовался тому, что проведу каникулы у бабушки с дедушкой. Меня всегда злило, когда мама продолжала обходиться со мной как с ребенком и начинала воспитывать. У бабушки с дедушкой мне нравилось, что со мной обходились как с ребенком, которого принимают таким, какой он есть, и при этом любили меня и относились ко мне серьезно. Я радовался тому, что снова буду просыпаться в своей постели под картиной Штюкельберга «Девочка с ящеркой», помогать бабушке готовить на кухне и просить ее прочитать какое-нибудь стихотворение, звать дедушку на кухню, отрывая его от дум о немцах, рассеянных по всему миру, а вечером сидеть вместе с ними за светлым столом. Я предвкушал запах бабушкиной туалетной воды в ванной комнате, радовался тому, что вновь увижу комнатную липку в дедовом кабинете, посуду с красными цветочками по ободку, столовые приборы с ручками из слоновой кости, большую стеклянную сырницу с крышкой. Я радовался предстоящей летней тишине, летним шумам и запахам.
Каникулы не обманули моих ожиданий. Мои воспоминания о доме и саде, о городке, об озере и окружающей природе наполнены картинами, которые запечатлелись у меня тем последним летом.
Поступив в университет, я приезжал к дедушке и бабушке на короткое время: на несколько дней перед Рождеством или после, на несколько дней после окончания весеннего семестра или перед началом зимнего. Я посылал дедушке свои письменные работы, думая, что они будут ему интересны. Он сразу отвечал мне одобрительным письмом; вопросы и критические замечания, которых у него возникало достаточно, он придерживал до нашей следующей встречи. Он собирал для меня вырезки из газет, главным образом о положении немцев в Силезии, Семиградье[4] и Казахстане, чему, по его мнению, я уделял недостаточно внимания. Раз в семестр я получал от них бандероль с кипой газетных вырезок, с сушеными яблоками, приготовленными бабушкой для меня, и с пятимарковой купюрой.
13
Зимой перед экзаменами я побоялся, что не успею толком подготовиться, и решил не ездить на Рождество к бабушке и дедушке. Однако они написали мне, чтобы я обязательно приехал. Хотя бы ненадолго. Дело не терпит отлагательств.
Они всегда содержали свой дом в большом порядке. Когда я приехал к ним в последний раз, порядок был прямо-таки пугающий. Дедушка и бабушка избавились от всех вещей, в которых не было особой надобности и которые, по их мнению, не заинтересовали бы меня, их единственного внука. В дом престарелых они переезжать не желали. Они хотели сохранить свое жилище. Однако они готовились к смерти и не хотели, чтобы их окружало что-то лишнее и ненужное.
Они обошли со мной все комнаты, спрашивая, что бы я готов был себе оставить. Некоторые знакомые мне вещи уже исчезли, а шкафы и стеллажи были наполовину пусты. Мне хотелось сохранить все, ведь все было связано с воспоминаниями и все, что дедушка и бабушка ради меня оставили бы в доме, удерживало бы их в этой жизни, но они с той будничной простотой, с которой готовились к смерти, невозмутимо объяснили мне, что я могу забрать лишь немногие вещи. Я, как студент и будущий референдарий[5], вряд ли сниму большую квартиру, а платить за место на мебельном складе у меня тоже денег не хватит. Мне нужно только то, что поместится в одной комнате. Может быть, дедушкины письменный стол и кресло? Его книги по истории? Или бабушкины книги? Готхельф, Келлер и Мейер? Или фотография с изображением прядильной фабрики, которой управлял дед? У меня стоял комок в горле, я не мог говорить и только кивал на все их предложения.
Все «Романы для удовольствия и приятного развлечения» по-прежнему стояли на полках. Их мне бабушка с дедушкой не предложили, а сам я не стал просить. Они бы мне их точно не дали. Мне бы пришлось признаться, что однажды я поступил вопреки их наставлениям и прочитал сначала роман о солдате, вернувшемся домой, а потом и другие романы. Дедушка и бабушка отказались продолжать редактирование серии, и она после этого была прекращена, но старики гордились выпущенными романами, о которых редактор издательства «Киоск» в Берне всегда отзывался как о лучших в своем роде. Кроме того, при всей серьезности своих предсмертных приготовлений бабушка и дедушка, как ни странно, сохраняли веселое настроение. В те несколько дней, что я провел у них после Рождества, я часто готов был расплакаться, а они вот нисколечко.
Когда я от них уезжал, дед, как всегда, проводил меня на вокзал. Как всегда, он выбрал для меня нужный вагон и нужное купе. Вагон – в середине поезда, потому что при столкновении поездов здесь бывает безопаснее всего, а купе он выбрал с попутчицей – дамой солидного возраста, которой он меня представил, сообщив, что я его внук и направляюсь домой, и попросил ее присмотреть за мной в дороге. Как всегда, он не разрешил, чтобы я, обняв его на прощание, проводил на перрон. Я высунулся в окно и смотрел, как он выходит из поезда и идет по платформе; в конце перрона он обернулся, помахал мне, а я помахал ему в ответ.
Через несколько недель дедушку и бабушку задавил автомобиль. Они пошли в деревню за покупками и уже возвращались домой. Водитель был пьян и заехал на тротуар. Бабушка умерла еще до приезда «скорой помощи», дедушка умер в больнице. Он умер сразу после полуночи, но я решил, что на могильной плите дата смерти у бабушки и дедушки будет одна и та же.
Часть вторая
1
Дедовы письменный стол и кресло сохранились у меня до сих пор. Остались и книги дедушки с бабушкой, и фотография прядильной фабрики. Письменный стол и кресло сначала стояли в моей комнате в материнской квартире, потом в моей первой собственной квартире – одна комната, кухонный уголок, душевая кабина да вид из окна на вокзал, – а потом я перевез их в одну из обычных в то время запущенных квартир в старом фонде – с высокими потолками, лепниной и двустворчатыми дверями, мы с моей подругой туда переехали, когда она родила ребенка. Когда мы расстались и я выехал из квартиры, письменный стол и кресло вместе с другими вещами я сдал на склад на хранение.
Я не мог оставаться, мне надо было уехать от красивой, взбалмошной и неверной подруги, уехать от ее вечно хнычущего, сучащего ножонками сына, уехать из города, в котором я вырос, в котором ходил в школу и в университет и в котором меня повсюду подстерегали воспоминания. Я собрал всю волю в кулак, бросил место ассистента, не имея другой работы, продал швейцарские облигации, которые получил в наследство от дедушки с бабушкой, и уехал.
Собственно, в отказе от места ничего особенно героического не было. Написав кандидатскую диссертацию, я шесть лет просидел над докторской, но так ее и не закончил. Я давно понял, к чему идет дело, но долгое время не признавался себе в этом. «Польза справедливости» – это была дедова тема, по ней существовала груда интересной литературы, и простор мыслям был огромный. Однако мои мысли никак не складывались в систему, а были скорее случайными, связанными с разного рода судебными казусами – дедовы размышления на дедову тему. Я тщился доказать, что справедливость лишь тогда приносит пользу, когда ее постулаты теоретически обосновываются и практически реализуются без оглядки на ее общественную полезность. Fiat iustitia, pereat mundus[6] – я действительно считал, что именно эти слова следует принять как девиз справедливости, и если мир считает, что подчинение требованиям справедливости приведет его к гибели, то он волен их отвергнуть и нести за это ответственность, справедливость же не обязана умерять строгость своих требований.
Я собирал многочисленные примеры, брал их из рассказов деда, из показательных процессов Фрайслера[7] и Хильды Беньямин[8], из решений Конституционного суда, который не стремился отстоять право и справедливость, а старался осуществить функцию политического посредничества и примирения или служить общественной пользе каким-нибудь иным образом. Разумеется, Фридрих Великий, епископ Пьер Кошон, Фрайслер, Хильда Беньямин и судьи Конституционного суда по-разному представляли себе, что такое справедливость. Однако, как я считал, я смогу доказать следующее: они, вынося свои политические приговоры, осознавали, что служат не одной только справедливости, независимо от того, что они под справедливостью понимали, а и другим целям. Эти самые другие цели были столь же различны, как различны были их представления о справедливости: благо короля или церкви, классовая или расовая борьба, политический мир. Правда, в одном они сходились – в том, что эти цели были для них важнее справедливости, под знаком которой проводилось судебное разбирательство и выносилось решение.
Так-то оно так. Только вот каким образом привести в систему, взвесить и оценить тот вред, который они причинили, и пользу, которую они принесли, пользу и вред для справедливости и для общества, пользу и вред относительно ближней и дальней перспективы? В конце концов мне осточертели не тема и не материал, а собственные мысли, не желавшие складываться в систему, в которую им следовало сложиться. Мне осточертело бесконечное множество слов, прочитанных, передуманных и написанных мною. Мне захотелось покинуть не только мою подругу, ее ребенка и город, но и уехать прочь от этой толпы слов.
Собственно говоря, в моем внезапном отъезде тоже не было ничего особенно героического. Я намеревался провести в Америке несколько месяцев, и хотя еще ни разу не уезжал так надолго и так далеко в одиночку, но в Нью-Йорке и Сан-Франциско у меня были адреса, по которым я мог остановиться, и была надежда, что в Ноксвилле и Хэндсборо, расположенных на моем маршруте от Восточного к Западному побережью, возможно, отыщутся еще какие-нибудь родственники. Чего же мне было бояться?
Однако за несколько дней до отъезда я чувствовал себя отвратительно. Я не боялся, что мой самолет разобьется, а поезд сойдет с рельсов. Так мне и надо, если мое путешествие неожиданно закончится тем, что самолет упадет в Атлантический океан. Я испугался чужбины, которая вдруг представилась мне чем-то устрашающим и ужасным, испугался утраты всего привычного и знакомого, всего, что вдруг стало мне казаться единственно для меня подходящим, отвечающим моей сущности и благорасположенным ко мне. Дедова ностальгия навалилась на меня еще до того, как я отправился в путь. Я едва удержался, чтобы не сказать подруге: не лучше ли нам вновь сойтись и оставить все по-старому? Зато во время самого путешествия ностальгия меня совсем не мучила.
Южнее Сан-Франциско я попал в настоящий рай. Там цвели сады, простирались луга, уютно вписывались в ландшафт немногочисленные невысокие здания, отгороженные от шоссе лесом, вниз к океану спускались каменистые террасы, все было залито солнцем, теплом и наполнено запахом моря и цветов. В зданиях располагался ресторан, общие залы и номера ровно на шестьдесят постояльцев. В залах и на близлежащих лужайках рая нас обучали йоге, гимнастике тай-ши, медитации, правильному дыханию и массажу. На сеансах групповой терапии – я сейчас уже не помню, как эти сеансы назывались и какие методы там применяли, – кроткие люди учились впадать в буйство, а буйные и крикливые – становиться кроткими и тихими. По одной из каменистых террас стекали горячие воды сернистого источника, заполняя бассейн, в котором можно было провести хоть целую ночь, глядя в звездное небо и прислушиваясь к шуму прибоя. Через какое-то время ход мыслей замедлялся, потом мысли словно исчезали куда-то, исчезали и мечты. И голова обретала покой.
Если бы пребывание там обошлось подешевле, я бы остался еще на неделю, на месяц, на год, целиком отдаваясь этому волшебству. Потратив за три недели половину своей наличности, я услышал от кого-то, что в Сан-Франциско есть институт, где за три месяца обучают ремеслу массажиста. Из всех удовольствий, полученных мной в этом раю, массаж произвел на меня самое сильное впечатление. Я и не предполагал, что телесный контакт с другим человеком, контакт без слов, без секса и эротики, может быть таким интенсивным, что чьи-то руки могут касаться тебя и доставлять ни с чем не сравнимое умиротворение, что массируемые тела могут становиться такими прекрасными и что массаж, который делаешь счастливому человеку, приносит тебе счастье, а массируя изнемогшего человека, ты приводишь в изнеможение себя. Я хотел стать своим человеком в этом мире телесных ощущений. Стоимость обучения была вполне сносной. Один мой знакомый в Сан-Франциско, художник, готов был предоставить мне комнату в своей большой квартире. Грусть, вызванную расставанием с райским местом, развеял мой тамошний учитель. «Тебе не стоит печалиться, что ты покидаешь эти места, – сказал он. – Скорее нужно радоваться, ведь ты в любой момент можешь сюда вернуться».
Я три месяца ходил на занятия в институт, сам массировал других, другие массировали меня, слушал лекции по анатомии и по этическим и экономическим аспектам профессионального массажа, а по выходным зубрил латинские названия костей и суставов, мускулов и жил и учился произносить их с американским акцентом, в последнюю же неделю разрабатывал тот вариант массажа, который я должен был показать на экзамене. Я был счастлив оттого, что учусь, радовался своему плохому американскому произношению, которое уберегало меня от искушения говорить умно и с юмором, был счастлив, что слова не играли никакой роли в том, чем я занимался. У меня было такое чувство, будто я живу в новом мире и по отношению к прежнему миру мне удалось создать необходимую дистанцию. Иногда меня слегка сбивали с толку насмешливые замечания художника, с которым мы подружились. Он говорил, что я учусь на массажиста как истый трудоголик и чудовищный аккуратист. Я настоящий супернемец суперпротестантского пошиба. Что такое сотворила со мной моя матушка? Что такое сделал я сам с собой?
2
Сидя в самолете, летевшем в Германию, я в мечтах строил планы, как бы я жил в Калифорнии, работая массажистом. В поезде, по дороге из аэропорта в родной город, проезжая по местности, заселенной словно по линейке, мимо чистеньких городов с аккуратно покрашенными домами, ухоженными палисадниками, низенькими заборчиками и мокрыми от дождя, сияющими чистотой улицами, я с ужасом понял, насколько этот мир ненастоящий и все в нем не так, понял, что я его неотъемлемая часть и никогда не смогу из него вырваться. Это было просто невозможно.
На первое время я поселился у матери. Мы почти не виделись: она уходила рано, возвращалась поздно и сразу укладывалась спать. Она была секретаршей, работала у своего шефа с тех пор, как он начинал с самых низов, а теперь вместе с ним поднялась наверх. Она всегда держалась на уровне своей секретарской техники, секретарской моды и правил секретарской корпорации. Когда любовная связь, в которую вступил с ней шеф, через год закончилась, она снова стала только секретаршей, и ничем больше. Однако она всегда была к его услугам, если неудача или успех требовали женского участия. Само собой разумелось, что она в любой момент была готова выполнить для него любую работу. Ее шеф был к ней тоже на свой манер лояльным. Он не только позволил ей подниматься вместе с ним наверх, ступенька за ступенькой, но и пробил для нее персональную зарплату.
Она этим гордилась. Она мечтала изучать медицину, но в войну не смогла сдать экзамены на аттестат зрелости, потому что ее призвали на обязательные работы, не смогла завершить учебу и после войны, потому что появился я и надо было зарабатывать деньги. Родители ее были люди состоятельные, но во время бегства от наступавших русских они погибли от пуль самолета-штурмовика и помочь ей уже никак не могли. Когда ей в 1952 году выплатили компенсацию за погибших родителей, мать решила, что заканчивать школу и поступать в университет для нее уже поздновато, и она купила себе дом в одной из окрестных деревенек. Винила ли она меня в том, что я своим рождением разрушил ее планы на жизнь? Она бы смогла стать хорошим врачом, аккуратным, умеющим отличить важное от несущественного, постоянно следящим за новейшими достижениями науки в своей области. Недостаток сердечного участия она бы компенсировала внимательностью и усердием; пациенты, вероятно, не очень бы ее любили, но наверняка ценили бы ее компетентность.
Она всю жизнь была человеком долга, и врачебная профессия подошла бы ей более всего остального. Быть может, она презирала себя за то, что свою энергию и дисциплинированность вкладывала только в борьбу за материальный достаток, а не направляла на высокие цели. Постоянным рефреном моего детства были ее слова, что учеба в школе – это привилегия и что уж если ей приходится вкалывать ради денег, то я, получив эту привилегию, тем более должен стараться. Когда я забросил свою докторскую диссертацию, она была жестоко разочарована, чуть ли не оскорблена. При этом и в школе, и в университете она не слишком-то облегчала мне жизнь: и в школе, и в университете мне приходилось подрабатывать, чтобы пополнить скудные средства, которыми мать меня обеспечивала, хотя на нашем бюджете уже не лежала тяжким грузом выплата по рассрочке за дом. Мое путешествие в Америку она не одобрила, как не одобрила и то, что, вернувшись, я не засел за диссертацию и не взялся за первую же работу, которую мне предложили.
По счастью, долго искать мне не пришлось. Я очень быстро нашел место редактора в издательстве, и мне это дело сразу же понравилось. Издательство планировало расширить программу выпуска юридических книг, и мне предстояло создать журнал и разработать серию учебников. Существовавшие в то время журналы и учебники вызывали у меня раздражение. Я горел желанием применить на практике все, чему научился за годы своего ассистентства, и готов был создавать новый журнал, публиковать учебники, находить нужных издателей и авторов, устанавливать контакты с читателями-студентами, разъезжать по университетским городам.