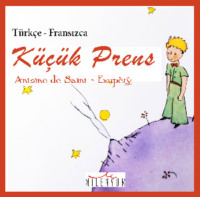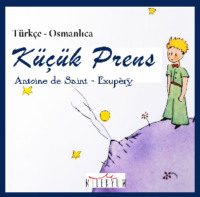Полная версия
Манон, танцовщица. Южный почтовый
– Да… Но тебе никогда не понять!
– Забудь меня!
– Никогда!
– Забудь.
* * *Дребезжит последний звонок, крошечный чемодан весит тонну, рельсы блестят, как бритва.
Он ее любил, теперь брезгует. «Он знает обо мне все постыдное, всю грязь…»
* * *«Умоляю вас, приходите. Мне так нужно с вами поговорить». Они встречаются. Вместо прежней, скромной, шляпка на ней теперь побольше и понаряднее. Она пополнела, а не похудела: спрятала сердце поглубже. Она из тех женщин, которые от горя полнеют, которые рано или поздно перестают страдать. Она протягивает ему маленькую пухлую ручку, круглую, словно яблочко: «Подурнела, да?» Она поняла, что он хотел сказать. Смотрит прямо перед собой и кажется забытой вещью на банкетке в кафе. Губы дрожат, нос морщится. «Неужели она на что-то надеялась?»
Она берет его за руку. Иллюзии женщины раздражают мужчину. Она покушается на его свободу. Он готов сказать что-то очень жестокое, и все будет кончено, он готов сказать… Но она заговорила первая. У нее все тот же нежный приятный голос, его лучше слушать, прикрыв глаза. С несказанной нежностью она произносит: «Старинный друг…»
Она не борется. Она жертвует прошлым, жертвует счастьем, надеясь сохранить дружбу, надеясь, что он не отнимет руку, хотя чувствует, что ему уже не по себе, надеясь…
Говорит: «Старинный друг». И все-таки плачет.
«Прощай, Манон!» – «Я еще хотела тебе сказать, хотела сказать…» Она идет за ним следом. Она хочет понять, осталась ли хоть малая частичка ее в сердце того, кого она боготворит. «Почему ты так жесток? Почему?» Они идут быстро, идут через «Чрево Парижа». С грузовиков снимают тяжелые ящики с овощами, щекастая капуста при электрическом свете кажется отлитой из свинца. Похоже, что вокруг в страшной спешке воздвигают триумфальные арки, готовят жертвенники. Грузчики вытирают пот, они не хотят, чтобы рассвет застал их насквозь мокрыми, слабыми, постаревшими на сто лет, будто после ночи любви. Она думает: «Разгрузят еще вот этот грузовик, и покажется солнце…» Но как долго приуготовляется торжество встречи, как непросто дождаться солнечных лучей! «Скажи… скажи, это потому, что я солгала? Потому что у меня такое ремесло? Если бы ты знал, как я его стыдилась, когда была с тобой!»
Он стиснул зубы. Ничего не хочет знать. Он богат, она нищая, она хочет его обокрасть. Ему и в голову не приходит, что деньги дают ему возможность любить. Он понятия не имеет, какая невиданная роскошь любовь для жалких девчонок вроде Манон.
«Не надо относиться с таким презрением…» Она уцепилась за его руку, но он твердо и жестко отстранил ее. И лицо у него стало таким неприятным…
«Ты, кажется, считаешь меня идиотом, милая?!»
Глаза у Манон раскрылись широко-широко.
Колокольчики молочников оповещают о туманном молоке рассвета, едкая зябкость пронизывает улицы. Прохожие, что попадаются навстречу, грубые здоровяки, первыми отхлебнули свежесть нового дня, но она вместе с грузчиками начинает утро с непосильной тяжести.
«Манон! Куда ты, Манон?!»
Визг тормозов. Она вскрикнула.
Она заметила только темную массу, что надвинулась на нее, а теперь ей так холодно. Голоса звучат глухо, долетают только отдельные слова, будто задремала в поезде: «Отойдите… Поймайте такси…» – «Он мне сказал… сказал… Он такой же, как все…»
* * *Больница. С носилок видна только арка входа и нескончаемый коридор, он покачивается, покачивается…
* * *Не мешайте мне умирать… Не трогайте меня…
* * *Постель как морская пучина.
* * *Нет, я не хочу его видеть. Нет, пусть уходит.
* * *Сюзанна! Он мне сказал… Да, Сюзанна, я угождала мужчинам, но не сердцем, не сердцем…
Для мужчин они кусок мяса. Она знала об этом. И для него, оплота добродетели, тоже – как это жестоко.
* * *Температура все выше, выше. У постели сидит священник. Священник говорит: «Пора покаяться. Вы вели дурную жизнь…» Мне еще и каяться!..
Лицо у нее блестит от пота, горячка отнимает силы, как нескончаемая борьба. «Покаяться… дурная жизнь… метрдотель «Пигаль» всегда смотрел на меня так грозно. Оно и понятно. А почему? Потому что я всегда хотела убежать. На площадь Клиши. Там ярмарка. Карусель с деревянными лошадками. Сядешь, и кажется, что летишь, летишь… Больно-то как… Добрый вечер, мадам…»
Пришла сиделка. Она так терпелива, ее можно попросить: «Зажгите лампу, дайте попить». У нее хватает времени выполнить все просьбы. Сиделка смотрит сосредоточенно, будто видит далекую цель, и уверена, что непременно ее достигнет. Интересно, какую? Наверное, старость?
Сиделка подготавливает приход ночи. Наводит порядок на тумбочке, задергивает шторы, зажигает лампу под абажуром. Ходит по палате туда и сюда, возникает из тени белоснежным пятном, с ней становится светлее.
Как мягко она двигается, исполняя свою таинственную работу. Наполняет палату покоем. Прикасается к вещам, будто желает им спокойной ночи. Расправляет простыню, пусть над болью царит умиротворяющая белизна. Она ненавидит смятое, скомканное, любое прибежище теней. И вокруг все успокаивается.
«Свет погасить?» – «Не надо». Потом сиделка сядет в кресло и будет тихонько вышивать. Она бесшумно вытягивает иголку, проявляет на полотне невидимые цветы.
До чего же умной стала Манон! Она все наконец поняла. Поняла, в чем разница между ней и вот этой женщиной в белом, что ходит туда и сюда, твердо ступая по земле, – она живет на другом берегу, город в ее окне с трубами, колокольнями и облаками готов принять ее. И она спокойно живет в этом городе.
Манон прибило к противоположному берегу. Там все нереально. Город – всего лишь декорация, и жалкая жизнь маленькой Манон не в силах его оживить, он так и остается муляжом, картоном. Прошлые радости, прошлое горе тоже ничего не говорят больше сердцу, тени и призраки не причиняют боль. Она кукла в кукольном фарсе. Манон догадалась, что умирает: «Мадам, мадам…»
«Поспите, милая. У вас жар». Руки сиделки такие прохладные. «Не убирайте, пожалуйста, руку». Прохладные, как родник, что трепещет в ней, насыщает ее, преображается в мысли…
Медленно бьют часы. Один удар… Два… Три… И жизнь всякий раз замирает… Десять… Одиннадцать… Последний еще звучит, все еще звучит, и рождается необъятная тишина. Ночь… ночь… Колокольный звон пробуждает эхо…
* * *«Будет прихрамывать», – сказал хирург. «А ведь я танцовщица…»
Съежившись у окна, за которым сереет день, она снова склоняется над вышиванием, в нем вкус вечности, оно делает возможным невозможное бегство, с ним остаются наедине, когда жизнь безысходна… Нельзя же плакать и плакать – смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена.
Авиатор
Колеса с силой давят на тормозные колодки.
Завертелся винт, поднялся ветер, и трава метров на двадцать впереди заструилась, словно вода. Одним движением руки летчик может выпустить бурю, может удержать ее.
Шум нарастает, мощнее, мощнее, и вот он уже ощутимая плотная среда, окружившая летчика. Когда пилот чувствует, что шум проник в него, его заполнил, слился с ним, он думает – «хорошо», и прикасается тыльной стороной ладони к гондоле – нет, не дрожит. Он рад, что энергия обрела такую плотность.
Летчик наклоняется: «Друзья! Счастливо». Ради прощания на рассвете друзья пришли, волоча за собой безразмерные тени. Но на пороге прыжка длиной в три тысячи километров летчик уже не с ними… Он смотрит на силуэт фюзеляжа, нацелившегося в небо, – против света он похож на ствол гаубицы. За винтом дрожащей пеленой стелется пейзаж.
Винт теперь вращается не спеша. Летчик расслабляет руки, так отдают швартовы. Дивясь тишине, он застегивает ремни безопасности, крепления парашюта, потом двигает плечами, туловищем, устраиваясь поудобнее в гондоле. Еще немного – и взлет, с этого мига он уже в ином мире.
Последний взгляд на приборную доску, где застыли говорящие циферблаты, – высотомер летчик аккуратно переводит на ноль. Последний взгляд на толстые короткие крылья, одобрительный кивок: «порядок», вот теперь он свободен. Катит медленно навстречу ветру, тянет ручку газа на себя, мотор выбрасывает гарь, становится горячее, самолет рвется вперед, роя винтом воздух. Эластичная струя воздуха подбрасывает самолет вверх, принимает обратно, смягчая удар. Прыжок, еще прыжок, еще. Летчик подлаживает скорость самолета к потоку воздуха, слившись с ним, чувствует, что расширяется, растет.
Земля перед глазами вытягивается, вьется ремешком между колесами. Воздух сначала неощутимый, потом текучий, теперь уплотнился, пилот опирается на него и поднимается выше, выше.
Исчезли ангары, что стоят вдоль взлетной полосы, потом деревья, потом холмы, и все шире и шире открывается горизонт. С высоты двухсот метров все кажется игрушечным – малютки деревья, раскрашенные домики, леса, похожие на клочки меха. Поднимешься еще выше, и земля оголится.
Вокруг неспокойно, короткие жесткие волны толкают самолет, он упирается, задирает нос, завихрения сбоку теребят крылья, гондола дрожит. Но рука летчика удерживает самолет, будто Фемида чаши весов.
На высоте трех тысяч метров полный покой, солнце висит неподвижно, вокруг ни единого колебания. И земля – так до нее далеко – тоже совершенно неподвижна. Летчик прикрывает закрылки, проверяет рули высоты, взятый на Париж курс и зависает на десять часов, отмечая лишь движение времени.
* * *Неподвижные волны лежат на море веером.
Солнце наконец стронулось с места.
Пилот вдруг физически ощутил неудобство. Посмотрел: задрожала стрелка на счетчике оборотов. Посмотрел: внизу море. Мотор захрипел, запнулся, мысли тоже запнулись, и в голове пусто. Синкопа. Рука летчика автоматически тянет ручку газа. Что это? Капля воды? Пустяки. Летчик бережно доводит гудение мотора до той ноты, которая его успокаивает. Если бы не холодный пот на лбу, никогда бы не поверил, что было страшно.
Летчик снова слегка наклонился вперед, снова крепко оперся локтями о борта гондолы – так он чувствует себя спокойно и надежно.
Теперь солнце нависает над ним. Усталость не мешает, если лишний раз не шевелиться, если не тревожить защитившегося неподвижностью тела, если достаточно легких касаний, чтобы управлять самолетом.
Уровень масла падает, потом поднимается – что еще стряслось?
Мотор начал стучать. Вот сволочь. Солнце повернуло налево и уже покраснело.
В голосе мотора слышится что-то металлическое. Нет… вряд ли шатун. Тогда что? Насос?
Гайка на ручке подачи газа ослабла, теперь попробуй, выпусти ее из рук. Новое неудобство!
Кто ж его знает? Может быть, и шатун.
Сиплое дыхание, расшатанные зубы, седые волосы говорят, что организм изношен. С моторами то же самое.
Хорошо бы додержаться до земли.
* * *Земля действует успокаивающе – аккуратные квадратики полей, прихотливая геометрия лесов, деревеньки. Пилот опускается ниже, чтобы лучше видеть землю. С большой высоты она кажется голой и мертвой, самолет снижается, и земля меняется: опушается лесами, покрывается зыбью впадин и возвышенностей – она словно бы дышит. Летчик планирует над горой, что похожа на спящего великана; стоит великану набрать в грудь побольше воздуха, и он толкнет самолет. Стойка на капоте нацелена на сад, сад расширяется, раскрывается, как объятия…
«Мотор рокочет веселым громом». А настораживающий стук, в который он вслушивался? Летчику не верится, что он был. Рядом земля – сама жизнь.
Он еще снижается, повторяя изгибы долины, что сереет лентой прокатного стана. Самолет тянет на себя поля, как простыни, отбрасывая их позади себя. Бросил тень на тополя и забыл о них, потом чуть приподнялся, чтобы пошире раздвинуть горизонт, так борец набирает полную грудь воздуха.
Теперь летчик правит на аэродром, летит низко, видит сквозь стеклянную крышу завода свет, видит парк, видит сгустившуюся тень. Земля струится потоком и выносит ему навстречу из неистощимого окоема крыши, стены, деревья…
Приземление – чистое надувательство. Обменял мощь ветра, рев мотора, свистящий шелест последнего виража на глухую провинцию: стену ангара, заклеенную белыми листками объявлений, подстриженные тополя, зеленый газон, на который выходят цепочкой юные англичанки с ракетками под мышкой из самолета Лондон – Париж.
Пилот растягивается на земле возле липкого фюзеляжа. К нему бегут со всех сторон: «Отлично!», «Чудесно!». Офицеры, друзья, зеваки… Усталость внезапно берет его в тиски. «Мы вам поможем подняться!..» Пилот поднимается, наклоняет голову и смотрит, как блестят у него руки от масла, хмель прошел, ему грустно до смерти.
* * *Теперь он всего-навсего Жак Бернис в пиджаке, чуть отдающем запахом камфары. Он весь поместился в затекшем, неловком теле и берет из аккуратно поставленных в углу чемоданов только преходящее, временное. А комната пока не обжита даже книгами, даже белоснежными простынями.
– Алло! Это ты?
Он вновь ощущает близость друзей. Слышит восклицания, поздравления.
– Точно с неба свалился! Молодчага!
– Так и есть, прямо с неба. Когда увидимся?
Если честно, сегодняшний вечер занят. Значит, завтра? Завтра всей компанией играют в гольф, пусть он тоже приходит. Неохота? Тогда послезавтра пообедают вместе. Ровно в восемь часов.
Бернис идет вверх бульварами. Ему кажется, он расшевеливает толпу, как сквозняк. Как будто бросает вызов. Навстречу такие попадаются, что тошнит, – едва шевелятся, разомлев от лени. А завоюешь вот эту женщину, и жизнь разомлеет, потечет еле-еле. Встречаются мужчины-трусы, а он в себе чувствует столько силы…
Ощущая переполняющую его силу, он входит в дансинг. Бросает взгляд на жиголо, пальто не снимает, сохраняет форму любопытствующего путешественника. Жиголо суетятся всю ночь в этом загончике, будто рыбки в аквариуме, выдумывают комплименты, танцуют, подходят к стойке, когда захочется выпить. В полупьяной компании Бернис один сохраняет трезвый рассудок, в нем чувствуется весомая мощь грузчика, он твердо стоит на ногах, мысли у него не плывут, не дробятся. Решил посидеть и пробирается к свободному столику. У женщин, которых он задевает взглядом, гаснут глаза, они их отводят или опускают. Так при его приближении гаснут во время ночных обходов сигареты часовых. Гибкие молодые люди расступаются, давая ему дорогу.
* * *Берниса назначили инструктором учебного отделения, и сегодня он завтракает в кафе по соседству с учебным аэродромом. Унтер-офицеры пьют кофе и переговариваются. Бернис невольно слышит их разговор.
«Заняты делом. Славные ребята».
Ребята толкуют о взлетной полосе, что раскисла от дождей, о наградных за сопроводительные полеты, о сегодняшних происшествиях.
– Лечу на небольшой высоте, и – представляешь невезуху? – лопнул цилиндр. Вокруг ни одной площадки. Вижу двор позади фермы. Скользнул на крыло, выровнялся, и – ба-бах! – в навозную кучу.
Раздается громкий смех.
– Со мной еще смешнее было. В один прекрасный день врезался в стог сена. А наблюдатель мой, лейтенант, представьте себе, из гондолы вывалился! Уж я искал его, искал! А он сидит себе в сене…
Бернис думает: они были на волосок от гибели, уцелели, и для них это стало смешным случаем. Говорят, не рисуясь, буднично, обыкновенно, будто подают рапорт или отчет. Славные ребята. Мы тут все свои не потому, что однополчане, а потому что можем говорить друг с другом попросту.
Это женщины всегда просят: расскажите, что вы там почувствовали.
* * *– Стажер Пишон?
– Я.
– Вы когда-нибудь летали?
– Нет.
Вот и хорошо, значит, начнем с чистого листа. Бывшие наблюдатели уверены, что уже все знают. У них на слуху команды: «ручку влево», «педаль от себя». Учить их непросто, упрямятся.
– Пойдемте, в первом полете будете только смотреть.
Оба устраиваются в гондоле.
Механик летной школы раскручивает винт с непростительной медлительностью. Ему здесь маяться еще шесть месяцев и одну неделю, о чем он и сделал запись сегодня утром в туалете. Нацарапал, а потом подсчитал: впереди примерно десять тысяч оборотов винта. Каждый день одно и то же. Ну и куда торопиться, спрашивается…
Стажер оглядывает голубое небо, дурацкие деревья, коров, что пасутся возле взлетной полосы. Инструктор протирает рукавом ручку газа: приятно, когда она блестит. Механик считает про себя обороты: насчитал уже двадцать два, сколько энергии зря пропало…
– Может, свечи почистишь?
Механик всерьез задумывается.
Мотор если захочет, то заведется. Лучше оставить его в покое. Тридцать. Тридцать один. Завелся.
Стажеру больше ничего не говорят слова «опасность», «героизм», «опьянение полетом».
Аэроплан катится, стажер считает, что еще по земле, и вдруг видит внизу ангар. Ветер изо всех сил дует ему в щеки. Стажер уперся взглядом в спину инструктора.
Господи! Что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, потом направо. Он цепляется за гондолу. Где она, эта земля? Он видит леса, они поворачиваются, приближаются, справа висит полотно железной дороги, небо… и вдруг прямо под шасси ложится спокойное ровное поле. Инструктор оборачивается, у него на лице улыбка. Стажер пытается понять, что произошло.
Бернис учит:
– Если происходит что-то неожиданное, соблюдайте следующие правила: первое – выключайте мотор, второе – снимайте очки, третье – крепче цепляйтесь за борта гондолы. Отстегивайте ремни только в случае пожара. Ясно?
– Ясно!
Наконец-то! Стажер дождался: ему сказали об опасности, сделав ее ощутимой, а его достойным знать о ней. Штатским обычно говорят: «опасности никакой». Пишон горд, что ему доверили тайну.
– Впрочем, – прибавляет инструктор, – авиация – вещь не опасная.
* * *Все ждут Мортье. Бернис не спеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову, и не без удивления наблюдает за своей левой ногой, которая отбивает такт.
– Странное дело, Бернис, время словно застопорилось.
Механик поднимает голову и видит, что горизонт уже заволокло туманной дымкой. Два-три дерева вдалеке видны пока отчетливо, но туман уже спеленал их понизу. Бернис стоит, по-прежнему опустив голову, и набивает трубку.
– Да, остановилось, и мне это не нравится.
У Мортье контрольный полет на диплом летчика, он давно должен прилететь.
– Бернис, вы бы им позвонили…
– Звонил уже. Он вылетел в четыре двадцать.
– И с тех пор никаких известий?
– Никаких.
Полковник уходит.
Бернис, уперев в бока руки, смотрит сердито на туман – раскинулся, будто сеть, и прижал, кто его знает где, ученика к земле. «А у Мортье никакого хладнокровия, и самолетом управляет кое-как, вот беда-то!»
– Смотри-ка!..
Нет, не то, едет какой-то автомобиль.
«Мортье, если ты выберешься из тумана, я тебе обещаю… я… я тебя расцелую!»
– Бернис! Тебя к телефону!
– Алло! Что за идиот надумал снести крыши в Доназеле?
– Этот идиот сейчас разобьется, оставьте его в покое, ругайте лучше туман!
– Но… Неужели?
– Отправляйтесь искать его с лестницей!
Бернис вешает трубку. Мортье заблудился, пытается найти ориентир.
Туман опускается толстым мягким пологом, теперь и в десяти метрах ничего не разглядишь.
– Бегом в медицинскую часть за машиной «Скорой помощи». Если не будет здесь через пять минут, под арест на две недели!
– Самолет!
Все вскакивают. Ослепший самолет продирается к ним, их не видя. Полковник присоединяется к кучке смотрящих.
– Господи! Господи! Господи! – машинально твердит он.
Бернис шепчет про себя:
– Выключи мотор, выключи, выключи… Прошу тебя, выключи мотор, выключи, выключи… Ты же обязательно врежешься!
Мортье увидел препятствие лишь в десяти метрах от себя, но, что увидел, никто не узнает.
Кто только не бежит к упавшему самолету. Солдаты – неожиданное событие сорвало их с места; унтер-офицеры, ревностные служаки; офицеры с огромным чувством неловкости. Дежурный офицер хоть ничего не видел, но объясняет, как все произошло, полковник наклонился ниже всех, он и тут «отец-командир».
Пилота наконец вытащили из гондолы, он бледен до синевы, левый глаз у него выпучен, сломана челюсть. Его положили на траву, встали кружком.
– Может, можно… – говорит полковник.
– Может, можно… – повторяет лейтенант.
Унтер-офицер расстегивает ворот на комбинезоне раненого, вреда это не принесет, а всем становится легче.
– «Скорая помощь»! Где она? – спрашивает полковник. По долгу службы он пытается принять решение.
– Уже едет, – отвечают ему, хотя никто ничего не знает.
Ответ успокаивает полковника.
– Кстати, вот еще что! – восклицает полковник и скорым шагом уходит, сам не зная куда и зачем.
Суета не нравится Бернису. Толпа, собравшаяся вокруг умирающего, коробит его.
– Идите, ребятки, идите… Расходитесь потихоньку…
Люди по двое, по трое расходятся, исчезают в тумане, что ползет со стороны огородов и яблоневых садов, над которыми падал самолет.
Пилот-стажер Пишон сделал для себя открытие: смерть – событие будничное. Встреча со смертью возвысила его в собственных глазах. Он вспоминает свой первый вылет с Бернисом, разочарование от того, что земля такая плоская, что все так спокойно, он не разглядел за спокойствием близости смерти. Но она там была, обыденная, заурядная, ее заслоняла улыбка Берниса, равнодушие механика, ослепительное солнце, синее небо. Пишон берет Берниса за руку.
– Я хочу вам сказать… Завтра я непременно полечу. Не побоюсь.
Берниса не восхищает его бесстрашие.
– Полетите, ясное дело. Будете тренировать спирали.
До Пишона доходит еще кое-что.
– Только кажется, что они не переживают, им просто не до разговоров.
– Обычная авария, – отзывается Бернис.
* * *Высота кружит Бернису голову.
Одноместный самолет-истребитель громко рокочет. Земля внизу некрасивая – ископанная, изношенная, заплата на заплате, будто всю ее поделили.
Четыре тысячи триста метров, Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику внизу, будто на карту Европы в атласе. Желтые участки – пшеница, лиловые – клевер, людям они нужны одинаково, они сеют то и другое, но на взгляд участки враждуют, противостоят друг другу. Десять веков борьбы, ревности, соперничества выверили в конце концов границы, теперь людское достояние разместилось прочно.
Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен, мечты усыпляют, обессиливают, его теперь опьяняет мощь, и он ей хозяин.
Он прибавляет скорость, резко увеличив подачу газа, потом медленно и плавно тянет ручку на себя. Горизонт опрокидывается, земля откатывает назад, будто море во время отлива, самолет устремляется прямо в небо. На вершине параболы он опрокидывается и покачивается животом вверх, как мертвая рыба…
Пилот, погрузившись в небо, видит над собой землю, она похожа на пляж и вдруг головокружительно обрушивается на него всем своим весом. Он выключает мотор, земля застывает неподвижно вертикальной стеной: самолет проходит высшую точку. Бернис осторожно подтягивает его, пока перед ним вновь не расстилается мирный окоем горизонта.
Виражи вдавливают Берниса в кресло; свечи делают легче легкого, превращая в шарик, готовый лопнуть; прилив смывает горизонт, отлив возвращает на место; послушный мотор урчит, стихает и вновь урчит…
Сухой треск: левое крыло!
Пилота подловили, на лету подставили подножку: воздух под ним подкосился. Самолет штопором падает вниз.
Окоем опускается на него покрывалом. Земля закручивает, поворачивая вокруг него леса, колокольни, равнины. Пилот видит: будто пущенная из пращи, пролетает мимо него белая вилла…
Мертвого пилота, как волна утопленника, накрывает земля.
Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет»!
Предисловие
«Южный почтовый» и «Ночной полет» – два первых романа, опубликованных Антуаном де Сент-Экзюпери. Когда они появились – первый в июле 1929 года с предисловием Андре Бёклера, второй в июле 1931-го (а не в октябре 1931-го, как часто писали о нем) с предисловием Андре Жида, – молодой писатель еще работал в компании Аэропосталь. История создания этих двух романов на виду благодаря письмам, которые автор, находясь вдалеке от своих друзей и близких, посылал из Парижа, Тулузы, затем из Дакара, Кап-Джуби, Буэнос-Айреса. Письма матери и ее кузине Ивонне де Лестранж – герцогиня де Тревиз, дружила с Андре Жидом и Марком Аллегре, которые звали ее Яблочко, – изобилуют свидетельствами о рождающемся призвании писателя.
Годы, когда юный де Сент-Экзюпери жил в Париже, когда желанный союз с Луизой де Вильморен отдалялся все сильнее, он много писал и надеялся многое опубликовать. В то время он с равным воодушевлением откликался на соблазны писательства и на зов неба, отдавал силы призванию литератора и призванию авиатора. Сент-Экзюпери не летчик, ставший писателем, и не писатель, ставший летчиком, он изначально летчик и писатель одновременно. Стремление к той и к другой профессии было вызвано одинаковой страстью и вызывало нетерпеливое желание продвигаться вперед.