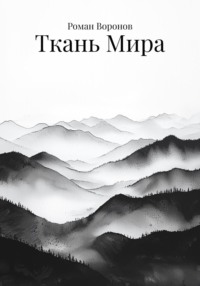Полная версия
Океания

Роман Воронов
Океания
Канатоходец
Ложь с истиною поменять
Слепцу от убеждения —
Что золото за медь отдать
Слепому от рождения.
Ты крепко стоишь на ногах, читатель? Поставь ноги на ширину плеч. Устойчиво? Можешь стать еще шире или сесть и чем-нибудь пристегнуться к чему-нибудь. Так устойчивее? Нет, потому что ты – канатоходец. Сам проявленный мир – это энергетический канат, тонкая нить, а точнее, грань. Ты, обитатель этого мира, все время вынужден находиться на грани и балансировать на ней шестом собственного мировоззрения. Каждый новый шаг – это выбор мысли, слова, поступка, в конечном счете места, куда опустится твоя нога. Сделав шаг, ты вновь оказываешься на грани, но где эта грань теперь, куда качнулся канат последствий и кто сейчас твой зритель, затаивший дыхание и ждущий нового шага? И вот еще что: посмотри на свой шест, нет ли на его концах нитей, уходящих под купол цирка, – извини, хотел сказать Вселенной, – и не натягивает или ослабляет их кто-то?
Итак, оркестр сыграл туш, шпрехшталмейстер открыл рот объявить твой выход, ты на площадке под куполом мира, и вдаль уходит тонкий канат, твоя грань. Начинай…
Он знал, что упадет. Дело не во сне, где мамина любимая ваза раскололась на части, когда он взял ее в руки, и не в острой боли правого колена, и не в том, что клоун-акробат надрезал канат, о чем ему доверительно сообщил клоун-с-пуделями, который, по информации клоуна-акробата, в свою очередь испортил страховку, и даже не в его собственном жгучем желании покончить с этим, под «этим» имелось в виду все: и номер, и клоуны всех мастей, да и сама жизнь, напоминавшая цирк вселенского масштаба. Дело было в одном посетителе представления. Во время исполнения трюков Канатоходец никогда не смотрел в зал. Осветители по его просьбе в определенном месте вешали неяркий софит, и он, «прилипая» к нему взглядом, нагружал сознание работой по «удержанию» этого маяка, а сам номер «передавал в руки» подсознанию и памяти мышц. Когда софит оказывался в метре от глаз, номер был закончен и Канатоходец спускался в центр манежа на поклон.
Несколько недель назад, работая под куполом, он заметил странную вещь. Зрение, как всегда, удерживало софит, но появилось навязчивое желание взглянуть вниз. Тогда Канатоходец удержался на луче маяка и объяснил себе произошедшее усталостью. Через неделю все повторилось: туш, гаснет свет, виден маяк, первый шаг, второй и… вновь проявившееся чувство, но более сильное, требовательное. Он сработал плохо, волнение выдало его, и зал ответил свистом. Директор только приоткрыл дверь в гримерку, недовольно покачал головой и тут же захлопнул ее.
В сердце Канатоходца поселился страх. Всю неделю до следующего шоу на репетициях он делал прогоны чисто, с полной концентрацией внимания на софите, но страх не покидал его. Он ждал воскресенья и при этом пугался неизвестности, руки, ранее с легкостью удерживавшие шест, стали цепляться за него, как за соломинку, а к страховке за спиной трюкач попросил добавить сетку над манежем. Номер грозил потерей остроты, а значит, интереса и кассы.
Его выход стоял последним в представлении, когда в финале он спускался вниз, вместе с ним на поклон выходила вся труппа. От его номера зависело впечатление публики обо всем шоу целиком. На третий раз, перед первым шагом в «пустоту», Канатоходец бросил взгляд в темный сектор, где, как ему казалось, находился источник его тревоги, и сразу же встретился с глазами, смотрящими прямо на него. Лицо человека было скрыто темнотой зала. Через мгновение Канатоходец вернулся к софиту и шагнул на канат, но память о глазах в зале не давала сознанию передать тело в управление подсознанию, и номер он закончил тяжело, не поймав куража, мокрый от напряжения и страха.
– Что с тобой? – был первый вопрос Директора, влетевшего в гримерную комнату после выступления. – Ты не на канате, ты не в номере, ты не в себе. Такое впечатление, что ты вообще на другой планете. Где ты?
Канатоходец молчал.
– Вот что, дружок, – продолжил Директор, – даю тебе неделю, не справишься с нервами, или что там, черт возьми, еще с тобой, – сниму номер.
Дверь грохнула так, что лампа под потолком удивленно заморгала и от собственного удивления погасла. Гримерная погрузилась в темноту…
Канатоходец с детства слышал голоса – два голоса. Один принадлежал Богу, другой – Лукавому. Он не знал, откуда он это знал, но знал он это совершенно точно. Делая самый первый шаг в своей жизни, сразу за материнским «Смелее, малыш», он услышал: «Смелее, исследователь, смелее в Мой Мир, дарую его тебе целиком». Это был голос Бога. Сменил его Лукавый: «Смелее, трус, в мир дарованных испытаний, целиком возложенных на твои “могучие” плечи».
Эти два голоса сопровождали его везде, он прекрасно различал их и в шуме игры, и в тишине одиночества, и в радости от полученного, и в горести от потерянного. Бог не поучал, не просил, не требовал. Бог задавал вопросы, предоставляя возможность ответить на них самому себе. Лукавый был напорист, настырен, ядовит и требователен. Лукавый настаивал, а не спрашивал и отвечал сам.
Бог вопрошал: «Что подсказывает тебе сердце?»
Лукавый нашептывал: «Ты же разумный человек».
Канатоходец жил меж этих голосов, грань, на которую он опирался то одной, то другой ногой, проходила всегда посередине. Он балансировал равноудаленно от обоих источников. Что-то мешало подойти к Богу, и это же не пускало к Лукавому. Все остальные голоса, наполнявшие мир, не имели значения. Слова родителей, учителей, друзей, врагов были пусты и по смыслу, и по звучанию.
Канатоходец вырос настоящим Канатоходцем, баланс между Богом и Лукавым сотворил ему сбалансированное существование, его шест. Спроси о нем тех, кто знал его, и они сказали бы: ни хороший, ни плохой, ни черный, ни белый, никакой, бесцветный, незаметный, ровный. В жизненных ситуациях он оказывался там, где не мог очутиться обычный человек – на нейтральной полосе, в бездействии действия и в действии бездействия. Канат был его стихией, тело было его точкой равновесия, идеальной серединой. И вот возник раздражитель, третий среди привычных двух, безмолвный и беззвучный голос – глаза посетителя зрительного зала. Мир Канатоходца изменился. Без его воли и желания он, не принадлежавший ни Богу, ни Лукавому, ставил перед трюкачом выбор чего-то третьего.
Делавший «первый шаг» сотни раз боялся сделать новый «первый». Кто ты, незнакомец, натянувший еще один канат?
Неделя прошла в бессонных ночах между идеальным исполнением номера на репетициях. Дни были обычной точкой равновесия, привычной и удобной, ночи же несли истязание для разума, раздвоение и разбалансировку. Вот Бог, вот Лукавый, вот узкий путь между ними, так было много лет. Теперь путь расходился змеиным языком, а такие трюки Канатоходцу были неведомы и казались невыполнимыми.
Перед очередным выступлением появилась знакомая дрожь в коленях, заныло сердце, захотелось бежать вниз, в гримерную, нет, на улицу, на воздух, подальше от шатра, от людей, среди которых затаились страшные глаза. Он стал искать их, едва барабанщик дал дробь. Глаза были на месте, но не испугали, а притянули к себе, и Канатоходец почувствовал установившуюся связь, новый, невидимый никому трос протянулся от него в зал. Он моргнул, барабанщик повторил дробь, и шаг был сделан. Номер прошел великолепно, публика пребывала в восторге, как и Директор, обнявший триумфатора со словами: «Молодец, сынок, смелее, смелее!» Вечером труппа устроила небольшой банкет. Среди всеобщего приподнятого настроения он был задумчив и тих, впрочем, как и обычно. Никто не заметил нового состояния Канатоходца, оно повторяло прежнее его отношение к жизни: ровное, спокойное, нейтральное, укладывающееся в его амплуа.
Если бы они могли знать, что сегодняшний проход сделан не им: ни его сознанием, ни подсознанием, ни телом, а связью с глазами в зале… Эта нить держала, вертела, выполняла прыжки и шпагаты, он спокойно мог снять все страховки и выбросить шест, он мог делать на канате все что угодно и ни за что не упал бы. Он стал тем, кто был внизу, в темноте, кто точно не был ни Богом, ни Лукавым, но имел полную власть над Канатоходцем.
Следующие два выступления он трижды выходил на бис, введя в свой номер сложнейшие акробатические элементы без предварительных тренировок. В труппе начали недоверчиво коситься на новую звезду, а сама звезда – осознавать зависимость от новой связи.
Беспокойство Канатоходца усиливалось на фоне трюковых изысков на канате и, как следствие, растущих кассовых сборов. Во время очередного шоу он точно определил место, с которого на него смотрели и управляли им пугающие глаза. Уже ночью, когда все обитатели балагана успокоились – кто от позднего пиршества, кто от уборки клеток, зала и манежа – и уснули, Канатоходец отыскал нужное кресло – четвертый ряд, двенадцатое место – ничего особенного.
Утром он отправился в кассу. Кассиром работала полная добродушная женщина, чем-то напоминавшая гиппопотама Гипу, любимца публики младшего возраста. Женщина работала в балагане лет двадцать, и все звали ее просто Касса.
– Касса, у меня к тебе немного странный вопрос, – с ходу начал Канатоходец.
Касса невозмутимо подняла глаза, как поднимает глаза Гипу на дрессировщика, вошедшего в его вольер без еды, и сказала:
– Дорогой мой, я слышала за свою жизнь столько странных вопросов, что еще один, немного странный, не повредит моему пищеварению.
– Мне кажется, что несколько представлений подряд я вижу одного и того же человека на одном и том же месте. Может, ты вспомнишь его?
– О каком месте речь? – спокойно спросила Касса.
– Четвертый ряд, двенадцатое место. Не знаешь, кто покупает его? – надежда затрепетала в голосе Канатоходца. Касса расплылась в улыбке и проворковала:
– Издеваешься, да?
Канатоходец, замотав головой, произнес:
– Извини, я подумал, вдруг ты…
Касса вылезла всем своим пухлым лицом из окошка и весело проговорила:
– Я смотрела все твои последние выступления. Это шедевры, дорогуша, но я не помню, чтобы ты падал и ударялся головой, или ее вскружил успех? Ведь ты сам выкупил абонемент на это место на семь представлений. Ближайшее воскресение последнее, будешь продлять?
Канатоходец шел в гримерку на ватных ногах. Он купил это место, но для кого? Кто приходил на каждое шоу и что ему нужно? Где мы познакомились? Для чего все это? Вопросы заполнили голову трюкача, сознание не успевало разгонять этот туман, вопросы множились при полном отсутствии ответов. По привычке он передал функцию перемещения своего тела в пространстве подсознанию и, двигаясь в таком полузомбированном виде, подобно судну в густом тумане, налетел на – нет, не айсберг – на Распорядителя зала.
– Здравствуйте, дружище, – бодро проговорил тот. – Выглядите потрепанным. Могу ли я чем-нибудь помочь вам?
– Да, Распорядитель, – очнулся от удара об айсберг капитан судна. – Место двенадцать, ряд четвертый, пойдемте покажу. Кто сидит на нем?
– Не надо показывать, дружище, – с удивлением сказал Распорядитель. – Вы же прекрасно знаете владельца этого места, – и он вынул из кармана небольшого размера зеркало.
Канатоходец смотрел на него как на умалишенного, впрочем, получая такой же взгляд от собеседника в ответ.
– Вы, право, не больны ли, друг мой? – спросил распорядитель, внимательно вглядываясь в Канатоходца. – Это же ваше зеркало, вы сами вручили его мне и просили класть перед шоу на четвертый ряд, двенадцатое место, а после забирать его. Я проделал это уже шесть раз. Если оно понадобилось вам и мои услуги больше не нужны, так и скажите, чего ради устраивать комедию?
Канатоходец молчал. Айсберг, на который налетело судно, оказался миражом, а пробоина – настоящей. Судно стремительно погружалось в пучину. «Всем покинуть корабль», – раздалась команда, и он очнулся:
– Нет, нет, выполните мою просьбу еще раз.
Распорядитель зала утвердительно кивнул, опустил зеркало в карман и раздраженной походкой проследовал прежним курсом.
«Итак, – рассуждал Канатоходец, – я покупаю место для зеркала и во время выступления смотрю не на софит, а в него, вижу собственный отраженный взгляд, и все это происходит без моего участия, потому что я узнаю об этом от других людей. Я сумасшедший». Эта мысль, точнее, последняя сентенция, несколько успокоила его, и Канатоходец, напевая бравурный марш, отправился в гримерную комнату по идеальной прямой, будто начерченной на плитках коридора.
Он знал, что упадет, потому что решил сойти с основного каната на новый путь. К такому решению Канатоходец пришел после вскрывшихся обстоятельств его необъяснимого для самого себя поведения.
– Господи, что скажешь Ты?
– Не исследователем ли ты пришел в мой мир? – традиционно вопросом на вопрос прозвучал голос Бога.
– Шагнешь в пропасть и исследуешь закон всемирного тяготения, а также закон сохранения энергии при контакте с манежем! – прохохотал Лукавый, так же традиционно.
Стоя на площадке под куполом балагана, Канатоходец уже не смотрел ни вниз, на «глаза», ни на канат, уходящий бесконечной струной в сторону софита. Все эти атрибуты не имели значения. Решение было принято, барабанщик последний раз коснулся палочкой натянутой кожи, и Канатоходец сделал шаг… мимо каната. Зал охнул. Трюкач не упал, не повис на страховке – он исчез, только что был – и вдруг его не стало.
– Вон он, – прозвучал одинокий голос, все посмотрели на протянутую руку из зала и увидели Канатоходца на другой площадке. Шагнув с одной, он очутился на другой, минуя сам канат. Тишину разорвал восторженный рев публики. Зрители неистовствовали так, что шатровые растяжки ходили ходуном. Распорядитель зала, опасаясь за устойчивость конструкции, выскочил на улицу и замер, широко разинув рот. Город, в центре которого стоял балаган, исчез вместе с домами, улицами фонарными столбами, бездомными собаками и сонными жителями. Вокруг, сколько хватало глаз, расстилалась идеально ровная и гладкая поверхность, без ям, холмов неровностей почвы, без растений и деревьев. Земля, если так можно назвать то, что было под ногами, напоминала шоколадную глазурь, аккуратно разлитую поверх пирога. В ночном небе, над головой ошарашенного Распорядителя, висели две бледно-голубые луны.
Настоящая любовь
Мне в дальних странствиях искать покой,
Вам – упокоиться в объятьях страстных,
Но, наклонившись ивой над рекой,
В час одиночества полночный быть несчастной.
1
Скрип уключин навсегда остался в Ее памяти. День был ветреный, бот, который отнял Его у Нее, подпрыгивал на волнах, как молодой сайгак, и Он был вынужден сесть на скамейку, укрывшись от брызг плащом. Толком разглядеть Его в эти последние мгновения прощания возможности не было. Они расстались как-то скомкано, суетливо, возможно, из-за большого количества провожающих, в общем, не так, как хотелось им обоим.
Фрегат «Успешный» еще несколько часов боролся со встречным ветром и наконец, одержав победу, исчез за горизонтом. Она знала тем внутренним женским чутьем, так раздражающим порой мужчин, что «Успешный» не вернется сам и не вернет ей Его. Внутри была абсолютная пустота, ей казалось, что, кроме кожи, продрогшей на ветру, ничего больше нет. Сердце молчало, кровь перестала бежать по венам и просто испарилась, соленый же воздух, влетавший через ноздри, не находил внутри того, что составляет привычную биологическую суть человека. Пустота стала ее наполнением. Она не помнила, как оказалась дома, в своей постели, просто портовый шум исчез, и тишина, спутница пустоты, вытекла из нее наружу, заполнив собой комнату. Очертания стен и мебели поплыли в ее сознании, уши заложило беззвучной патокой, она прислушалась к себе: сердце продолжало хранить молчание, и только оттаявшая под пледом кожа ослабила свою хватку. Она глубоко выдохнула и закрыла глаза.
2
«Успешный» шел под всеми парусами. Стройный, подтянутый, шестнадцатипушечный красавец, услада глаз мариниста, летел над волнами, на зависть врагам.
Он стоял на полубаке и смотрел, как бушприт пытается проткнуть заходящее солнце. Через четверть часа его проглотит море, и полная чернота заберется под камзол, цепкими пальцами вопьется в кожу и разорвет грудную клетку, чтобы наполнить собой ноющее от тоски сердце. А ведь солнце – это все, что напоминало ему о Ней, не будет солнца – не станет и Ее. Он застонал и сполз на палубу, прислонившись к фок-мачте. Баковый с удивлением посмотрел на странного пассажира, но, сделав скидку на морскую болезнь, вернулся к работе впередсмотрящего. Ровное дыхание океана успокаивало, но, ныряя навстречу волне, солнечные лучи на палубе становились каждый раз короче и короче, отползая от бизань-мачты к грот-мачте, еще ближе, вот они коснулись его ботфортов, еще один взлет носа, затем нырок – и темнота вошла в мир. На фрегате зажгли сигнальные фонари, вахтенный бросил взгляд на бедолагу, тот уже не сидел, привалившись к мачте, а лежал на палубе, уткнувшись головой в моток пеньки. «Не откинулся бы, – подумал моряк. – Ладно, доложу боцману после вахты».
3
Она сверху посмотрела на себя, свернувшуюся клубочком под одеялом. Такая вдруг маленькая, несчастная, но в общем симпатичная женщина. «Подожди меня, я мигом», – сказала Она себе и представила Его образ: белая рубаха с кружевным воротом, зеленый камзол, ботфорты… нет, не то. Его рассудительность, логика поступков, ум, устойчивый и упрямый, доказывающий Его правоту всем и вся, вот что создавало «Его» в ее сознании. С ним было спокойно, но не свободно, ну и пусть, внутренне она приветствовала такие отношения, и Он подходил ей идеально. Визуализация была закончена, и ее душа мгновенно притянулась к Нему…
Ночь, скрип такелажа, плохо поставленный стаксель хлопает на ветру, а вот и Он, лежит возле мачты, прямо на палубе, такой родной, любимый, наверное, спит. Ее душа рванулась к Нему, но… Его души с ним нет, Он обездушен, здесь только тело, и оно бездыханно.
«Ну, конечно, он полетел навстречу мне, мы разминулись, Господи, он же такой умный и сообразил раньше меня, что делать».
Она представила себя как в обычном зеркале, и легкое белое облачко, висевшее над телом человека на палубе, растворилось. Через секунду к нему подошли двое, это были баковый матрос и боцман. Они осмотрели тело, и боцман заключил: «Преставился, бедняга, упокой Господь его душу. Надо доложить капитану».
4
Едва прислонившись к пеньковой бухте, Он сразу же узрел в сознании своем Ее образ: тело маленькой стройной женщины, затянутое в корсет, чувственные губы, глаза, от которых кружилась голова. Он любил Ее всю, какая Она есть, но более всего Ее плоть, и именно эти очертания наиболее отчетливо проявились сейчас. Тяга к Ней была столь велика, что Он без сожаления взглянул на себя, распростертого на палубных досках, и всей душой, а именно Ей Он был сейчас, рванулся к берегу, на котором оставил любимую… Вот их дом, в лунном свете увитые плющом стены, распахнутое настежь окно спальни. Он, как обезумевшая птица, влетел в комнату – на кровати под одеялом, поджав под себя ноги, лежит Его единственная. Сон Ее столь спокоен, что не слышно дыхания. Душа Его касается губ той, что всегда была для Него родной душой, но Она бездушна, под одеялом только тело.
«Она, как и я, не выдержала разлуки и отправилась ко мне, мы разминулись. Я догоню Ее».
Ночной сторож с удивлением обернулся на стук форточки в доме напротив, на улице ни ветерка, и чего людям не спится?
5
Взмывая над «Успешным», Она, обернувшись, бросила взгляд на кормовой фонарь, яркой звездой отражавшийся на черном зеркале океана, и… тут же уперлась во что-то «мягкое», если подобный термин применим к тонкому плану.
«Что это?» – подумала Она.
– Это я, твой ангел, – получила ответ Ее душа. – Ты в моих объятиях.
– Отчего удерживаешь меня? Я спешу, спешу к Нему, Он ждет меня дома, не держи меня.
– Неверны намерения твои, дорогая моя, я не держу тебя, но, полагая себе встречу с Ним в том виде, как ты представляешь ее себе сейчас, вы не встретитесь никогда.
– Что ты говоришь? Я вижу то, что люблю.
– Тебя ждут мытарства души, пока не прозреешь, – ответил ангел, и ощущение «мягкости» пропало.
– Только время потеряла, – сказала сама себе Ее душа и пустилась к своему телу…
В доме было пусто, ставни на окнах и двери заперты, мебель накрыта кофрами.
«Странно, – подумала душа, – и для чего такие сложности?» Она вновь прислушалась к себе – Ее тянуло прочь от дома. Отдавшись этому чувству, Она поднялась над крышами и развернулась в сторону церкви.
Отпевание уже закончилось, тело новопреставленной без гроба, по причине отсутствия родственников или иных пожелавших оплатить расходы, понесли к могиле. Она успела к первым комьям земли, сбрасываемой могильщиком на завернутое в саван тело.
– Любимый, – позвала Она. Тишина, его здесь нет.
«Что же делать? Что же мне теперь делать?» Ее душа металась меж могильных камней и крестов, и наконец, пролетая мимо каменного надгробия какого-то умелого моряка, Она решила: «Назад, к нему, на “Успешный”».
Предупреждение ангела о мытарствах становилось угрожающе ясным.
6
Спустя мгновение Он оказался на фрегате, точнее, под килем оного, мимо которого вглубь океана достаточно быстро опускалось его тело в зеленом камзоле, в белой рубахе с вышитым воротом и ботфортами, к которым было привязано пушечное ядро.
– Любовь моя, – обратился он то ли к мертвецу, то ли к чернеющей внизу глубине. Ответа не последовало, но нечто «мягкое», прикоснувшись к нему, потянуло его в противоположную от тела сторону, наверх, к восходящему над океаном солнцу.
– Это ты, любимая?
– Это я, твой ангел, – последовал ответ от «мягкого».
– Я умер?
– Твое тело, не ты.
– Я искал Ее. – Душе Его хотелось плакать.
– Я знаю, я был рядом. Вы ходите по кругу друг за другом и не встретитесь никогда.
– По кругу? Но я могу подождать Ее.
– Это круг мытарств душ, чтобы разорвать его, нужно намерение о встрече душ, нужна настоящая любовь.
– Но я любил Ее, очень сильно.
– Может, ты любил не Ее, а только часть? Если не ответишь себе сам, из круга не выйдешь.
«Мягкость» исчезла, в парусах «Успешного» заиграло солнце, пробили склянки.
7
– Мы словно ходим по кругу и не можем угадать место встречи. Как сказал ангел? Полагаю себе встречу неправильно. Кстати, ангел, ты здесь? – спросила Она.
– Я всегда рядом, – был ответ, и ощущение «мягкости» вернулось.
– Если я буду ждать Его возле своего тела, Он придет?
– Нет, Он так же не тронется от своего, но как только ты отправишься к нему, Он сделает то же самое в твою сторону.
– Отчего так?
– Ваша связь линейна, она физическая, но не духовная. Ты любишь Его разум, Он – твое тело. Это жесткая связь, несгибаемый диаметр, в круге мытарств вы в любой момент времени находитесь на противоположных концах, встречного движения не будет.
– Получается, я не любила Его, а Он – меня?
– Вы любили друг друга как люди, а не как души. Если ты точно можешь сказать себе, за что любишь, значит, это не любовь.
– Как же так? И что значит – настоящая любовь?
– Значит, что когда ты представляешь себе другого, то видишь только Свет. Ни один из вас не видит в другом Света, поэтому вы оба во тьме.
«Мягкость» ангела в этот момент стала еще и «теплой».
– Что же теперь будет с нами?
– Ты можешь быть в любом месте земли три дня, затем предстанешь перед Богом. С ним будет так же.
– Мы не встретимся больше вообще?
– Это известно только Богу. Если желаешь этой встречи, проси – и услышана будешь. Эти три дня я рядом.
«Теплота» и «мягкость» растворились в холодном моросящем дожде, накрывшем кладбище и старенькую церковь с полуразрушенным шпилем. Могильщик постучал лопатой по свежему холмику, соскреб грязь с сапог и поплелся к своей конуре, но на полпути, завидев в траве незабудку, остановился, сорвал цветок и вернулся к могиле. Она смотрела на старика с высоты в десять футов с неожиданной благодарностью, забытое чувство вдруг проснулось внутри, и Она заметила через грязную, штопанную-перештопанную одежду могильщика в области сердца свечение.
8
Он уселся на нок-рею. Восход, океанический простор, потрясающий вид.
– Знаковое место, – произнес расположившийся по соседству «мягкий».
– Ты о рее или об океане? – поинтересовался Он.
– Я об этом, – и ангел ткнул Его в центр того, что Он, вернее, его душа, представлял собой сейчас.
– А что там?
– Искра Божья, именно она находит в другом такую же искру, и тогда возникает настоящая любовь.
– Намекаешь на то, что я не разглядел ее в Ней?
– Ага, тело помешало, смотреть надо было внутрь, но не Ее, а себя. Только найдя искру в себе, разглядишь искру в другом.