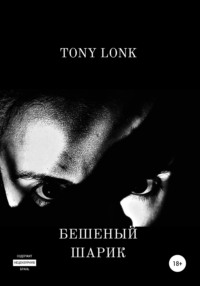Полная версия
Упадальщики. Отторжение

Tony Lonk
Упадальщики. Отторжение
Глава 1. Суть, которую можно только проглотить, и ею же неминуемо подавиться
«Я знаю, смерть страшна только лишь потому, что она навсегда отнимает у меня тех, кого я люблю. Утрата возможности любить и быть любимой в данном, конкретном, особенном случае, забирает с собой частичку меня самой – недолюбившей и недолюбленной по факту настоящего и в будущем.
Когда смерть проявилась предо мною впервые, в секунду и навсегда отняв у меня того, чья любовь была со мной с первых дней моей жизни, я познала утрату, с которой не могла примириться – утрату жизнеутверждающей любви…любви к отцу, которая родилась вместе со мной. Нет, я не перестала его любить. При мне осталась любовь, как память и благодарность, но больше никогда я не смогу любить его, созидая всё то прекрасное, что наполняло его жизнь.
Как же страшно любить. Это куда страшнее, чем жить с нелюбимыми. Это куда страшнее, чем сама смерть.
Находясь в западне не принятой и как следствие не пережитой скорби, я не делаю ничего, чтобы из неё выбраться. Для этого нужна отвага, которой у меня нет. Отвага воспринимать правду, как правду, и не прятать истину от самой же себя в тёмных, непродуманных уголках наспех выстроенных заблуждений.
Я верила, что любовь – лекарь, спаситель, волшебный проводник к радостям и удовольствию. Об этом писали в книгах. Об этом снимали фильмы. Об этом пели песни. Об этом говорили мои одноклассницы, не пересекая зыбкие границы общего для них – сопливого пространства, где находили свою призрачную реализацию их розовые теории. Об этом есть слишком много информации. И что?
Я искала любовь в других людях, ослеплённая иллюзорной надеждой добыть облегчение. Думая только о тех, кого случайно, либо по роковому стечению обстоятельств, занесло в мою жизнь, я забыла о себе. У меня не было ощущения ценности моего существования. Я забыла о своих личных потребностях и совершенно перестала чувствовать собственное тело. Мне было хорошо, если в результате моих усилий хорошо и комфортно чувствовали себя те, кто диктовали мне правила игры. День за днём, год за годом я терялась в чужих судьбах. Так прошло несколько десятков лет. Я не получила ни исцеления, ни спасения, а мой муж стал для меня проводником к страданиям и тотальному неудовлетворению.
Сегодня меня настигло запоздалое озарение, и теперь я не знаю, как распорядиться знанием, добытым мною после раскрытия изначальной тайны. Эта тайна очень проста, но слишком опасна. До недавнего времени я боялась простоты, но никак не опасности. Сорокалетней женщине стыдно бояться в принципе. О тайне, какой бы страшной она ни была, важно хотя бы просто знать.
Наше будущее, а также будущее тех, кто любят нас, зависит от того, как мы пережили любимых. Пережить чужого человека так же легко, как забыть вчерашний, ничем непримечательный, день. Пережить своего человека – равно оставить во вчерашнем дне самого себя с этим человеком. Сегодня, завтра и в будущем ты не будешь прежним, и только от тебя зависит, с каким тобой будут делить свои судьбы все те, с кем ты продолжишь делить собственную судьбу. Это сложный процесс, который мы загодя упрощаем, пытаясь защитить своё сердце. Поддаваясь нежеланию видеть то, что несёт угрозу нашей стабильности, мы стремительно слепнем и довольствуемся способностью видеть только то, что можем представить.
Помни, Ромуальда, просто помни – убегая от врага, ты догонишь саму себя.
Всему своё время и свой срок. Ты всё упустила и пошла по ложному пути. А смерть близка, и она отнимет у тебя последнее, что согревало твоё сердце».
– Сучище-сучонка, где я могу найти тебя, моя сладкая девчонка?
Голос Саймона звучал по обыкновению мерзко. Околоэротические высказывания из его уст оповещали не о его желании заняться сексом, а всего лишь пошло сигнализировали о намерении поскандалить, и, если ему будет угодно, подраться до очередных телесных повреждений, по жребию самой судьбы определённых для кого-то из них, а то и сразу для двоих с разницей в степени тяжести. Секс друг с другом в их паре с некоторых пор считался зазорным, а кровопролитные драки полюбились обоим в равной степени. От намечающегося жестокого столкновения их отделяла старая битая дверь.
– Иди в задницу, мудень! – крикнула Ромуальда в ответ, тем самым, развёрнуто обозначая свой настрой.
– Я как раз в пути!
Услышав приближающиеся шаги мужа, Ромуальда судорожно схватила лист бумаги, на котором всего минуту назад ею было написано важное послание самой себе. В страхе, что это может прочесть Саймон, она скомкала фактическое доказательство собственной уязвимости и запихнула бесформенный комок нечаянного откровения себе в рот.
Самозвано несчастный муж вошёл в комнату как раз в тот момент, когда его непризнанно несчастная жена давилась познанной ею истиной. Саймон мог спасти Ромуальду сразу, однако, следуя исключительно собственному предпочтению, он спокойно переждал момент, пока это считалось своевременным, и вытащил слизкий комок чужого секрета, когда было почти поздно.
– Бумага, – презрительно произнёс он, – Ты в каком веке, идиотина? Пыталась сохранить конфиденциальность, сожрав свою писанину? Мне давно насрать на тебя и всё, что с тобой связано. В следующий раз погрызи дискету. Позорище.
Глава 2. Идентификация раздора
Саймон явно чего-то ждал.
– Я жду благодарности. Не подведи, малышка,– прошептал он, обращаясь к лежащей у его ног Ромуальде, которая всё ещё задыхалась.
В этот момент он явно переживал чувственный пик сродни оргазму.
– За что я должна тебя благодарить?
Получив ответную дерзость, на которую он рассчитывал, Саймон мастерски разыграл карту справедливого гнева. По-зверски агрессивно, он схватил Ромуальду за волосы и приподнял её голову, с целью добиться зрительного контакта между ними. При наличии крови, данная картина из мира людей ничем не отличалась бы от той, которую снимают для Animal Planet в мире диких животных. Это был хищник, терзающий свою жертву.
– А что сейчас произошло? – спросил он, смакуя каждое слово.
Будь его воля, он говорил бы не умолкая, однако для того, чтобы разумно выразиться много слов не требуется. Рядом с Ромуальдой, его посредственный словарный запас и вовсе мельчал. Сохраняя бдительность, он не выходил за пределы привычных речевых оборотов и проходил один и тот же лексический путь, как протоптанную им безопасную дорожку. Коренные изменения смысловой подачи, транслируемой Саймоном без устали и логических пауз, произошли в период его очередного экзистенциального кризиса. Именно тогда он нашёл близких по духу людей, которые сразу же стали его лучшими друзьями. Мощное влияние на его сознание со стороны небольшой группки подозрительных людей было невозможно не заметить. Прежде скудная лексика Саймона обрела неожиданное развитие и подчас гротескную форму. Его достижением было то, что он всего лишь повторял всё, что слышал от тех, кого хотел слушать.
Саймон явно упивался сладостью доминирующего положения над женой, ставшей для него главным противником в жизни. Слабое положение Ромуальды оказалось сродни джекпоту, сорвать который мог тот, кто в результате гарантированно почувствовал бы себя счастливчиком. Куш такой величины давался Саймону всего пару раз за десятилетие.
Он тряс Ромуальду излюбленным способом, «взбадривая одуревшую жёнушку» для качественного продолжения их дальнейшего диалога. Только так, по его глубокому убеждению, он мог добиться нужной ему концентрации её внимания.
Вопреки обыкновению, Ромуальда не чинила активного физического сопротивления. Она смотрела мужу в глаза, демонстративно подтверждая безжалостную истину – страшно было скорее ему, чем ей.
– Да, формально ты меня спас, – ответила она, срывая голос от напряжения, – но перед этим ты выпустил на божий свет свою маниакальную сущность.
– Да, я спас тебя, – растягивая каждый слог, напевал Саймон, – и неважно, как я это сделал.
Своими руками он жёстко дёргал голову Ромуальды, имитируя утвердительный кивок. Только таким способом он мог получить её согласие.
– Спасибо, – нехотя и достаточно грубо произнесла Ромуальда.
Саймон ощущал едкую концентрацию лжи, стремительно расползающейся в пространстве вокруг них, но навязанная им игра продолжалась.
– Нет! Волшебное слово!
Ромуальда знала много «волшебных слов», но Саймон всегда хотел слышать в свой адрес лишь одно из них:
– Благодарю.
Это доставляло ему неведомое для неё и особенное для него удовольствие. Банальное слово, куда более банальное лицемерие, и повторяющиеся ситуации, когда он агрессивно выпрашивал слова благодарности, одобрения и согласия – всё это давало ему кратковременную экстатическую встряску.
– Теперь ты должна добиться моего прощения.
Да, он никогда не мог остановиться. Последняя фаза любого их с Саймоном конфликта считалась самой ненавистной для Ромуальды, поскольку запросы Саймона провоцировали у неё натуральные приступы тошноты. С другой стороны, эта фаза давала ей своеобразную перезагрузку и Ромуальда могла выступать против агрессора с новыми силами, каждый раз появляющимися непонятно откуда.
– Я должна молить о прощении? За что?
– Десять из тридцати пяти лет единственной и бесценной жизни я прожил с больной на всю голову женой. Мои лучшие годы смешались с дерьмом! Кто знает, что нас ждёт впереди, а я уже достаточно пострадал. Вопрос о том, кто над кем издевается, остаётся открытым, и будет висеть на твоей совести мёртвым грузом моей загубленной судьбы. Ты должна держать ответ за причинённое тобой зло. Вчера, сегодня, завтра – всегда, сучка! Всегда!
Прежде, Ромуальда соблюдала устоявшийся порядок выяснения отношений с мужем и в конце, после оскорблений и потасовок, просила прощения у Саймона с одной лишь целью – чтобы он отстал от неё и не вынуждал его добивать. В этот раз, из её уст вырвалось слово, перечёркивающее весь сценарий:
– Уходи.
Саймон был обескуражен. Новые условия игры он считал неприемлемыми. Ситуация вынуждала его либо отступить, либо действовать радикально, но ему было страшно двигаться в направлении, заданном другим человеком. Он не изменял привычке действовать только в том случае, когда имеет возможность предвидеть последствия собственного выбора. Отступление приравнивалось к унижению, причиняющему невыносимую душевную боль.
У двери, в момент, когда казалось, что он намерен уйти, Саймон остановился, и дал понять, что намерен остаться. Он был не в силах меняться сам, а уж тем более менять свои привычки.
Исхитряясь по максимуму, он продолжал свою злобную импровизацию, даже не пытаясь устоять перед соблазном прибегнуть к прежним садистским трюкам.
– Идиотское имя – Ро-му-а-а-а-ль-да. Идиотские имена дают идиотам. Напомни, кто тебя так обозвал? Грешник-отец или дура-мать?
Ромуальда не отвечала.
– Идиоты. Только идиоты называют своих детей странными именами. Цель отличиться от других оказалась сильнее здравого смысла. Маркер их ущербного поколения.
Слушая мужа, Ромуальда в который раз задавалась простым вопросом, не дающим ей покоя уже не один год: «Почему?». Так и не найдя ответа, она без должного сопротивления постаралась перетерпеть направленное на неё психологическое насилие. Стойко выслушивая оскорбительные выпады Саймона, она пыталась ответить спокойно и всеобъемлюще, как человек, занимающийся просветительской деятельностью.
– Так звали мою бабушку. В регионе, откуда она родом, это имя распространено. Как жаль, что ты до сих пор не в курсе, что мы живём в мультикультурном государстве.
Саймон был явно настроен на острую дискуссию. Он также считал себя в праве возразить её возражениям.
– Мы живём не в тех далёких краях и никогда там не будем. Из-за твоей заграничной клички я могу воспринимать тебя не иначе, как собаку. И не трахай мне мозги своей херней про комиксокультурное государство!
Игнорируя спасительную осторожность, Саймон поддался импульсу и пошёл по заведомо провальному пути. Идти назад было поздно – Ромуальда уже схватила его за слабое место. Его слабым местом оказалась горячая голова.
– Про заграничное имя мне говорит Саймон, который стесняется быть Семёном?
Сравнение с собакой Ромуальду нисколько не оскорбило, а вот Саймон, услышав напоминание об отверженной им же правде, был серьёзно оскорблён.
– Не подменяй понятия! То имя идентифицировало меня по национальному признаку, к которому я не хочу иметь никакого отношения. Это мой сознательный выбор.
– Тебе стыдно быть национальным признаком?
Жестокая игра перешла на сложный уровень. Саймон не справлялся с новыми вводными.
– Заткнись, шавка! – защищал он своё право на раздражение.
Подобно собаке, Ромуальда учуяла его слабину. Ей выпал шанс зайти ещё дальше.
– Будь ты хоть лордом Ричардом, национальный признак никуда не денется. Советую тебе поджечь себя, и если тебе повезёт выжить, ты будешь навсегда лишён национального признака не только на словах. По-другому никак. Тебе никогда не заработать на пластические операции.
Услышав это, Саймон набросился на неё с намерением «сжечь суку первой».
Его горячее намерение было внезапно погашено преждевременным визитом званых гостей в лице близких друзей-наставников. Ромуальда презирала званых гостей. Званые гости презирали Ромуальду. Взвесив все «за» и «против», она решила уйти туда где, как ей казалось, её презирали все сорок лет, которые она прожила в надежде на то, что когда-то всё изменится.
Глава 3. Горечь материнской любви
Много лет тому назад «Красный дом» на правой набережной был огромным шумным гнездом беспокойного и когда-то счастливого семейства Нойманн. Давно покинутый своими певчими птицами, приют её вымирающего рода встретил Ромуальду невыразимой тоской и тёмно-багровой мрачностью. Кое-где стены некогда образцового фасада и вовсе почернели. Большой дом медленно погибал без энергии полноценной человеческой жизни под его кровом.
Тихо отворив двери своим ключом, Ромуальда направилась к месту, где находился бесценный след давно ушедшего счастья. Этот необыкновенный след, соединяющий настоящее с прошлым, хранила стена заброшенной спальни. Там, скрытый от солнца и мира за плотнозанавешенным окном, доживал свои дни её отец. Над его кроватью, уже после его смерти, по приказу матери была прибита самодельная книжная полка с грубыми деревянными створками. Некрасивая, наспех сколоченная конструкция скрывала надпись на стене, которую оставил Отто, когда понял, что жить ему осталось недолго.
«За каждым чудом может скрываться чья-то любовь».
Единственным поводом возвращаться в родительский дом снова и снова для Ромуальды была неописуемая тяга к медитативному созерцанию корявых буковок. Забывая о времени и насущных вопросах, она застывала перед посланием, наполненным безоговорочной любовью и надеждой на лучшее. И как бы ни хотела она верить отцу, у неё этого ни разу не получилось. Ей не посчастливилось найти чудо, которое могло бы спасти её от самой себя.
«Красный дом Нойманнов» превратился в «Склеп Нойманнов». Внутри особняка колонистов-основателей Старого Света царил безнадёжный мрак. Только в одной комнате, дни и ночи, горел яркий жизнеутверждающий свет.
Это было крохотное убежище для матери Ромуальды. София встретила старость в положении, о котором в молодости и помыслить не могла. Отверженная по вине её личных убеждений. Бессильная, чтобы воплотить хотя бы один из своих многочисленных замыслов. Широта её желаний неминуемо сталкивалась с ограничениями её возможностей. Одинокая, и поэтому лишённая деятельного функционала. Слишком старая, чтобы пересмотреть жизнь и собственные позиции заново. Ментально, она была юна и активна. Физически, она была дряхлой развалиной с множеством неизлечимых болезней. К её счастью, она не видела ничего плохого в себе. К её несчастью, она видела только плохое в других.
– Ужасно выглядишь, – вместо приветствия, сказала она своей дочери, – гораздо хуже, чем кое-кто. Тебе нужно в больницу.
Ромуальду поразило то, как близко, сама того не ведая, мать подошла к цели её визита. Непутёвая дочь заглянула в родительский дом в надежде одолжить много денег.
– Я записалась на скрининг. В пятницу, – ответила Ромуальда в своей манере – развёрнуто, но с элементами недосказанности.
София смотрела на дочь с присущей ей строгостью, но с некоторых пор Ромуальда жила без страха и материнский взгляд не затрагивал ни одну из струн её души, которые очевидно заглохли навсегда. С трудом проглотив невидимый, но твёрдый как камень комок в горле, она продолжала говорить:
–Я хотела тебе сказать, но не по телефону, а сейчас как-то трудно всё это вывалить одним разом…
Предвосхищая продолжение, мать остановила монолог, мучивший их обоих:
– Мне всё хорошо известно.
– Элла?
– Элла.
– Ну что же, теперь мне гораздо легче. Прямо отлегло. Ох-х-хорошо!
– Да что ж тут хорошего, дура?!
– Даже не знаю…
Случайно нащупав почти удачный шанс, когда почти уместно просить о финансовой помощи, Ромуальда стала невольно тормозить саму себя. Это был не страх, а давняя обида за то, что в матери ей определили совсем не того человека. Не желая проваливаться в бездну неловкой паузы, София радикально сместила фокус своего внимания в сторону старинного шкафа, где хранились семейные реликвии Нейманнов, при этом она продолжала говорить, явно ностальгируя о времени, которое никогда не ценила и о людях, которых никогда не прощала:
– Вы всегда вместе. В радости и в горе. Хоть что-то путное я в вас вложила. Помню, как в первый день с тобой возникли серьёзные трудности. Тебя забрали от нас на две недели. Ох, как же плакал Альгрид. Мне казалось, он шевелил ручками и ножками, не переставая – так он искал тебя, хотел прикоснуться. В нём было столько любви. Бог отдал ему всё, чего недодал всем нам. Он был хорошим, светлым и правильным мальчиком.
– Ты звонила ему?
– Нет.
– Позвони.
София сердито отмахнулась.
– Почему ты так жестока? Я не понимаю, как мать способна в одночасье потерять любовь к своим детям. Материнская любовь либо есть и навсегда, либо её нет изначально.
Очередной трудный разговор с матерью ознаменовался для Ромуальды дополнительным усложнением. Последние три недели она мучилась от сильной боли глубоко в горле у корня языка. Болезнь, о которой она могла только догадываться, прогрессировала очень быстро, с каждым днём увеличивая интенсивность болезненных симптомов и сокращая время действия принимаемых ею лекарств. Ощущения при глотании и шевелении языком она мысленно прозвала краткосрочными пытками. Каждое произнесённое слово давалось ей через усилие и терпение. Мать, как и остальные люди, вызывали у неё чувство зависти, ведь говоря всё, что им вздумается, они ничего не ощущали. Не желая терпеть боль, которая только усиливалась холодным приёмом Софии, Ромуальда выпила болеутоляющую таблетку, сознательно превышая суточную дозу. Спешно выдвинув несколько теорий о происходящем с дочерью, София растревожилась ещё сильнее. Тревожная мать всегда первым и последним делом выражала свои обиды, которые из года в год оставались неизменными, и, разумеется, неразрешёнными.
– Я выносила под сердцем две дочери и одного сына, но вы двое мне отчаянно доказываете, что у меня три дочери, предлагая мне игнорировать факт того, что вместо сына, я дала этому миру и своему роду непонятно кого. Хвала Элле, она осознаёт, что над нами висит Дамоклов меч! Я родила нелюдя и Бог всё видит! Он наказал Альгрида, и, наверное, это справедливо, но вместе с ним Бог наказал меня – человека, который не предал честь и не попрал святые истины! Я виновата только лишь в том, что под моим сердцем нашлось место для человека, который отказался от своей божественной природы. В какой-то степени, я даже рада, что отец не застал эти чудовищные времена. Он был бы убит вами! Мои родительские чувства превратились в огромную душевную рану, которую ничто не способно исцелить. И я не знаю, что мне с этим делать. Моя живучесть – это мой тяжкий крест. Мои дети – моя Голгофа. Но Бог терпел, и нам велел.
Глядя на мать, Ромуальда подумала: «Как жаль, что папа слышит всё это, но ничего не может сказать». Она верила, что отец не был бы таким жестоко непримиримым по отношению к ней и брату.
– Альгрид – твой сын. Он ничего не изменил в себе и не собирался этого делать. Просто он оказался смелее и честнее всех нас. Сейчас ему нужна твоя любовь. Он отдал все свои силы на борьбу. Мы почти победили, мам!
– Бог не даст ему жизни! – закричала София, озвучивая свой личный вердикт сыну.
– Следуя твоей логике, отец тоже был ужасным человеком.
Сказав это, Ромуальда больше не могла рассчитывать на поддержку Софии, которая и без того была маловероятной. Соблазн хотя бы на словах пойти против матери оказался сильнее недоразвитого рационализма. Ей вспомнился их эмоциональный разговор с братом, когда они покидали родительский дом и в последний раз говорили о семье, общем прошлом и ожидаемом будущем. «Не знаю, как для тебя, а для меня наступает эпоха бесстрашного самовыражения», – говорил Альгрид, испытывая чистый восторг от предвкушения тотальной свободы, – «Я счастлив и не упущу ни малейшего шанса отжать у новой жизни всё лучшее, что есть для меня и не только для меня». Тогда Ромуальда тоже определила свой путь, которому верно следовала, сколько могла. Оглядываясь назад, она поняла, что изначально вышла не на ту дорожку и продолжала свою жизнь в эпохе унижения.
– Убирайся вон, мерзавка, – вопила мать, – и не приходи сюда, пока я тебя не позову!
Вытолкав дочь на улицу, София добилась сатисфакции, но ей не стало легче. Застыв у входа, сквозь дверь, Ромуальда слушала отдаляющийся, когда-то самый родной, голос:
–Ох, не зря я так наказана! С такими детками Божьей милости не дождёшься.
Горечь материнской любви донеслась и до старшей дочери, которая всю свою жизнь качественно доказывала родным чистоту своих намерений, чести и достоинства. Как обычно, Элла пришла навестить обожаемую ею мать. Как обычно, Элла не искала встреч с «младшенькими». В этот вечер всё оказалось необычным.
– Зачем приходила? – грубо по форме, но как никогда мягко по содержанию спросила Элла.
– Нам нужны деньги.
– И, наверняка, очень много денег?
– Слишком много.
Молча и так же забавно, как их покойная бабушка, Элла принялась резво копошиться у себя в сумочке. Визуально и ментально старшая сестра походила скорее на тётю Альгрида и Ромуальды. Много лет назад между ними внезапно и необратимо образовалась громадная пропасть. Диаметрально противоположные стороны этой пропасти занимали их непримиримо разные: культура, мироощущение, жизненные ценности и социальное положение. Не сходились они и в отношении к деньгам. Привычка Эллы раскладывать купюры определённого достоинства в разных местах её сумочки, для Ромуальды казалась дикостью. Опустошив все карманы и тайнички, Элла внимательно пересчитала свои предстоящие потери, после чего, отводя взгляд в сторону, передала младшей сестре всё, что у неё имелось.
– Не знаю, как для вас, а в моём случае это слишком много денег.
Не дожидаясь слов благодарности и вообще каких-либо слов, Элла побежала в дом к горюющей матери. Оставшийся вечер, они горевали уже вдвоём.
Таинственным образом, в памяти Ромуальды всплыл непримечательный эпизод прошлых лет, когда их с Эллой общение играло иными красками – неумолимо блекнущими, но ещё живыми. Во время очередной ссоры по поводу, не заслуживающему даже малой толики внимания уважающего себя человека, Элла произнесла фразу, значение которой сознание Ромуальды отвергло на этапе подхода: «Тебе поможет только Бог. Просто научись просить о помощи». Богобаязненный и удушливо раболепный образ матери являлся своего рода пугалом, отгоняющим от Ромуальды как саму веру, так и любые мысли о вере. Она не верила ни во что и ни за что не могла зацепиться в своей жизни, лишив свой мятежный дух хотя бы какого-нибудь спасательного круга, который мог бы помочь ей удержаться на плаву в эпицентре бесконечного экзистенциального шторма. Будучи не в силах задаваться поиском истинного Бога, она стала обращаться к тому, кто готов её услышать.
В гневе, она сквозь зубы процедила свою первую просьбу: «Пусть из моей жизни исчезнут эти люди! Я готова иметь дело с кем угодно, но только не с ними!».
Глава 4. Блистательное отражение
Неоновая вывеска кабаре «Распутники» манила на свой искусственный свет мятежные тени жителей провинциального города Старый Свет и случайных путников, рассекающих по 29 трассе, рядом с которой Ефим Распутин отстроил собственное имение свободы. Это были те люди, кто первыми отвергли самих себя. «Место, где у времени и условностей нет власти» даровало им полуночные иллюзии воли и неприкосновенности. Несколько поколений «распутников» сформировали закрытый круг избранных, куда входили те, кому в обычной жизни отводили последние места либо их вовсе списывали со счетов и предавали досрочному забвению. Случайно оказываясь рядом в общей будничной картине, никто из них не выдавал факта их знакомства, и только томные взгляды, обращенные друг к другу, свидетельствовали об особой близости между ними и желании в ближайшую ночь встретиться под бронзовым куполом культового места. Там в экстатическом единении они по традиции преклонялись перед идолом, который создал для них пёстрый эрзац рая.