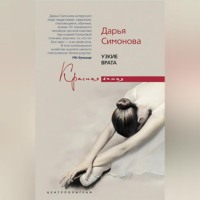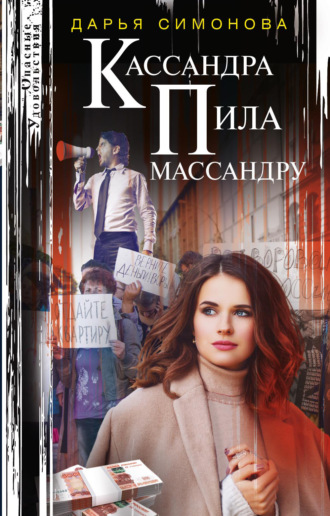
Полная версия
Кассандра пила массандру
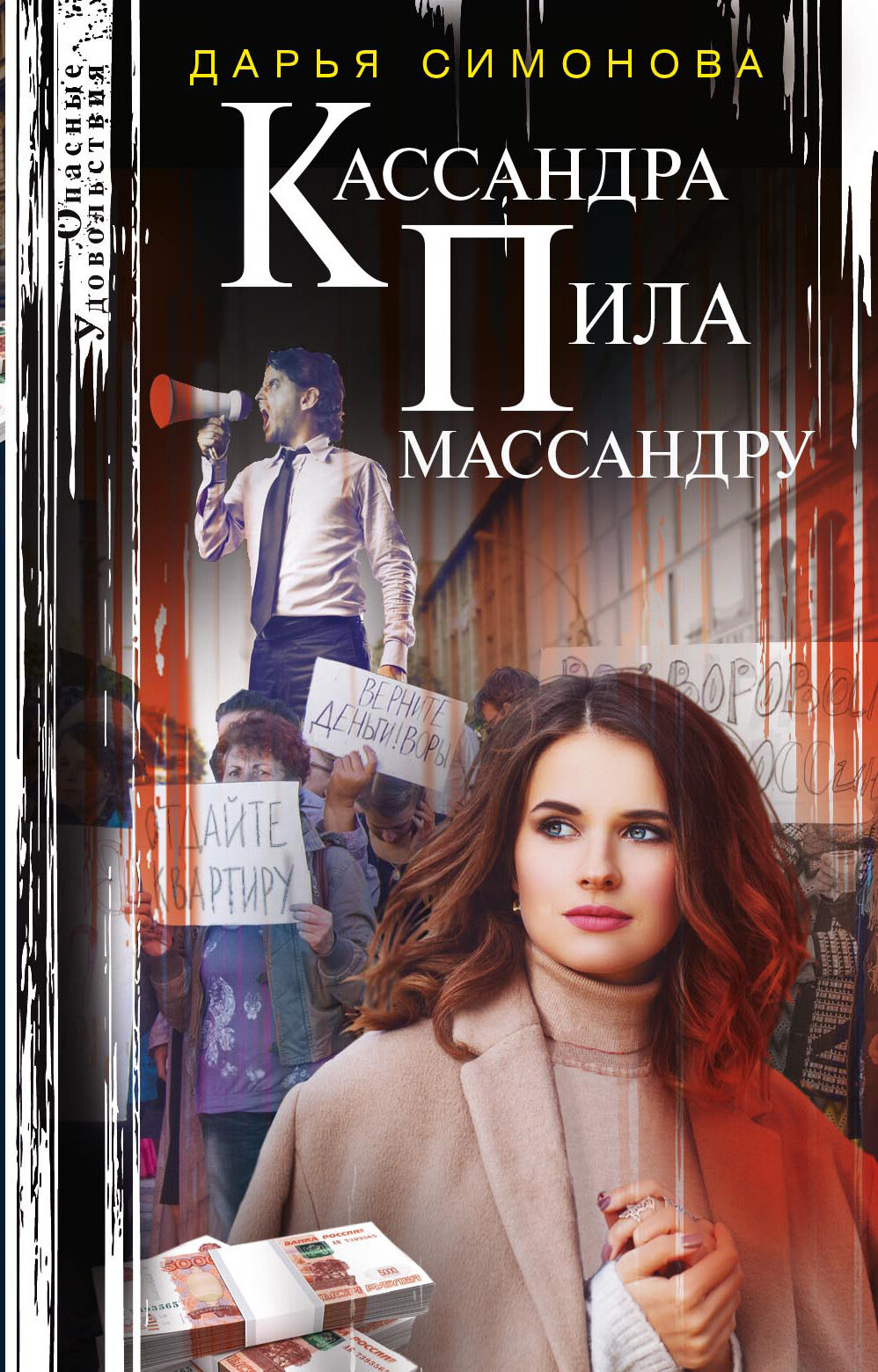
Дарья Симонова
Кассандра пила массандру
Моему сыну
1. Вспоминальная дружба
Настасья Кирилловна, в отличие от прочих, звонила исключительно приятно. Она не жаловалась на здоровье и на прочие неурядицы, она напоминала о себе лишь в том случае, когда у нее была припасена лакомая история. Или гениальная догадка, которую она могла подать с изысканной драматургией. Впрочем, любая горстка житейской шелухи служила ей прекрасным материалом для словесного трамплина, и потому Настасья Кирилловна всегда была готова пойти в атаку. Особенно когда столь неожиданно расцвела Doritis pulcherrima[1], которую она по-свойски называла Пульхерия. Жемчужина ее домашних кущей! Бывали моменты, когда Настасья Кирилловна собой гордилась и была не в силах сдерживать себя узами скромности и терпения. В один из таких моментов она и решилась позвонить человеку, дружбой с которым дорожила трепетно и обреченно. Люди думают, что женщине, помешанной на комнатных растениях, никто не нужен. Тем более у нее и так есть семья. Незаслуженная роскошь! А тут еще мужчина, и он даже немного моложе – зачем он ей?
Чтобы размышлять и говорить, размышлять и говорить… Да, это роскошь, но доступная и безнаказанная, поэтому завидуйте на здоровье. А смущение о возрасте, об этой ничтожной разнице – патриархальная вишенка на торте.
Василий чувствовал себя здесь неловко. И правда – кто он для нее? У нее муж, взрослая дочь, у нее баклажаны сорта «Офелия» никак не расцветут… Но они с Кирилловной познакомились при неразрывных обстоятельствах. Ведь тот сюжет не закончен, преступление не раскрыто. Очень давнее преступление. Убийцу никто никогда не искал, смерть сочли ненасильственной. Некоторые люди в досужих тихих разговорах высказывали иные мнения, но они так и осели в памяти боязливыми намеками, неуместной конспирологией, а потом и вовсе выветрились. Да и самих людей теперь не вспомнить. Осталось два последних адепта теории заговора – Василий Субботин и Настасья Кирилловна Кадочникова. Оба знали Леню Сабашникова, но в непересекающихся орбитах, и познакомились много позже его ухода. Произошло это на поминках, в первые годы после Лениной смерти представлявших собой многолюдную бурлящую вечеринку, на которой Василий чувствовал себя неуместно – по неприближенности своей к скорбящим. Настасья Кирилловна чувствовала себя схоже, но до поры до времени Вася об этом не догадывался, да и видел ее раза два до того, как они, по сути, предстали друг перед другом. Случилось так, что однажды на день памяти в назначенный час пришли только они двое. Постояли у могилки, подождали прочих. Отчего ж не подождать – день теплый, майский, цветущий… У Настасьи предусмотрительно нашелся легкий поминально-кладбищенский набор – дешевое вино из пакета и пирожки с яблоками. У Василия не нашлось ничего – он привык оплачивать посиделки в кафе… Вот так они и подружились, если это можно назвать дружбой. Впрочем, по нашим временам хорошо уже само присутствие той стихии связующих нитей, для которой никак не решишься подыскать название.
Помнится, в тот день они разговорились о… легкой жизни. Странная тема для этого места, но, быть может, как раз тут она и имела смысл. А если вспомнить Леньку – то в самый раз. Легкость была его главным ориентиром. Любое дело, даже сакраментально неподъемное, должно содержать в себе этап спонтанной эйфории, чувство принимающих объятий фортуны, короткую вспышку на подкорке – «все получится»! И вот именно это мгновенное озарение – знак того креста, который стоит тащить на хребте хоть всю жизнь! Священное чувство просвета сквозь треснувшую скорлупу – вот он, принцип Сабашникова… У Настасьи Кирилловны накатили короткие слезы при воспоминании – видно, принцип для нее тоже много значил.
С тех пор они с Василием начали перезваниваться, точнее, звонила она – а он охотно играл вторую скрипку. И правда, зачем проявлять инициативу и вторгаться в семью, мало ли чего муж подумает. Но Кирилловна быстро нашла Василию зримое и насущное применение в качестве самостийного компьютерного умельца. С этого момента новый визави был вхож в ее дом в уважаемом любым мужем статусе. Василия это и смущало, и забавляло. Кстати, супруга Настасьи Кирилловны он пока так ни разу и не видел. Его зовут Илья. Жена – почти героиня Достоевского, муженек с библейским именем – неплохая завязка сюжета…
– Василиус! Ты когда-нибудь думал пристально об Эмме?
Вот что спросила Настасья Кирилловна безмятежным ленивым летним вечером, когда Василия по-комариному тонко и противно покусывала совесть: опять он провел день в недопустимой праздности! Надо возрождать дело, вдыхать жизнь в увядший сайт, заниматься рекламой – о, как он все это не любил… Он любил… пристально думать! Но не об Эмме, конечно. Ведь она была живым свидетельством поражения. Эмма, подруга и покровительница Лени. Версии насильственной смерти строились именно на ней, но все они остались лишь беспомощными догадками. Зыбким основанием для них служила тень могущественной фигуры… и, да, снова мифический муж, которого никто не видел, но призрак которого источал криминальный дух. Словом, был у Эммы муж, с которым она, похоже, заключила пакт о ненападении. При жизни Леньки сценарий этого треугольника был мирным и прагматичным: у Эммы и супруга общий бизнес, и они не расходятся, чтобы его не делить. В остальном – отношения абсолютно свободные! Никакой мещанской ревности. Никакой!
– Настасья Кирилловна, чтоб не сказать Филипповна, – поддержал Василий их обычный обмен приветствиями, – на что вы намекаете?
– Ты помнишь, как она вела себя после смерти Леньки? – Голос ее дрожал от азарта, освященного веками: ведь всякое запутанное преступление должна разгадывать умная женщина, не имеющая к нему никакого отношения! Закон Кристи – Хаммурапи – Мэрфи и еще бог знает чей…
Василий не помнил, как вела себя Эмма. Не мог помнить. Тогда он уже не водил с Ленькой той бесшабашной и варварской дружбы, как в ранней юности, когда они наперевес с железяками ходили в битвы с нациками, чьи банды расплодились в Питере 1990 года. Бритоголовые совершали набеги на хиппи, живущих в сквотах. Это были две противостоящие друг другу стихии, это были битвы не на жизнь, а на смерть. Но вот именно тогда на Васиной памяти никто из наших, из праведных детей цветов, не погиб, и это рождало великий детский восторг победы, чей вкус остался в душевных закромах до сих пор. Хотя потом последовало столько страшных и незаживающих потерь – да вот хотя бы и сам Ленька! Но он ушел непобежденным.
На тот момент Василий уже утратил пульс дружбы. Они с Сабашниковым общались урывками. Эмму тот не афишировал. Но и не скрывал, конечно. Она поражала… очень спокойным лицом. Василий никогда доселе не видел таких лиц. Как у статуи! Все древнегреческие трагедии отгремели тысячелетия назад, и что еще может потревожить этот лик… И это лицо садилось в роскошную машину, каких и не было больше в стране – или так казалось? Вот представьте, что Ника Самофракийская… ладно, не Ника, она без головы, но Венера как-то банально! – словом, представьте, что кто-то из этой когорты садится в «лексус» – хотя не в жигуль же им садиться! – и едет в… Куда бы она ни ехала, жди беды, разве не так?
Вот таким образом Василий и запомнил подругу Лени Сабашникова. Штрихом напоследок осталась похвальная выносливость: древнегреческая богиня могла их всех, слабаков, перепить.
– Настасья Кирилловна, помню только одно, – признался Василий. – Эмма блеснула погребальным спонсорством и отгрохала Леньке памятник. Когда я его вижу, мне начинает казаться, что наш раздолбай Сабашников был криминальным авторитетом. По идее я должен быть ей благодарным – сам-то не дал ни копейки. Но ведь меня никто и не просил, мы ж с вами были сто пятидесятой водой на киселе. А те, кто размахивал кошельками в праведном порыве увековечить память друга, утекли в Лету, чему мы с вами были свидетелями…
– Насчет памятника ты зря, – нетерпеливо возразила Кирилловна. – Скажи спасибо, что такой есть. А тебе, конечно, надо, чтобы его Эрнст Неизвестный делал?! Нет, Василиус, я тебе хотела сказать совершенно о другом. Я вспомнила одну деталь, которую теперь увидела в ином ракурсе.
– Внимаю, Настасья Кирилловна!
Он соскучился по разговорам о Леньке, потому что в них жила молодость. Они были долгими, они освобождали от нынешней текучки, от унылого сегодня, закованного в нужду, в унизительное забвение и разобщенность. Какое удовольствие – бросить дела, бессмысленные и не приносящие долгожданного катарсиса, и погрузиться в давно минувшее волнующее вчера, погрязнуть в светлом прошлом, когда все неслось и переливалось всеми радостями бытия… Давно умерший друг был гораздо живее нынешней жизни, как некогда в советской парадигме злобный лысый гоблин был «живее всех живых».
– Так вот, – продолжила Настасья, – помнишь ли ты, как Эмма проявляла пристальный интерес к Ленькиным друзьям? А лучше сказать, к его окружению мужского пола, ко всем этим веселым плакальщикам, которые быстро забывали, по ком они плачут. На сборищах сидела с кем-нибудь из них в обнимку. И ни одна живая душа не смутилась неуместностью этого! Свобода нравов, я понимаю… Леня и сам был такой, это я тоже понимаю.
– Настасья Кирилловна, вы очень великодушны в своем понимании, в отличие от меня.
– Ты дослушай, потом съязвишь! – строго оборвала Кирилловна и, понизив-смягчив тон, продолжила: – Ты вообще понял, о чем я? Ты видел, как она однажды – ты был тогда, я помню! – вешалась на шею какому-то беззубому художнику?
Василий усмехнулся.
– Что ж, аристократов тянет вниз, плебеев наверх.
Последовала пауза, что явилась стремительным трамплином к возмущению.
– Это ты Эмму назвал аристократкой?! – вскрикнула Настасья в священном ужасе.
– Не ловите меня на слове, это всего лишь цитата. Конечно, я понимаю, о чем вы. Однажды мы с бывшей женой… хотя стоп! Давайте, как говорится, начнем с азов. Эмма была замужем, что ей не мешало фактически жить с Сабашниковым. Заметьте, что у нее с мужем был не развод де-факто, когда брак сохраняется только на бумаге, – нет! Они именно жили вместе, растили ребенка, оба участвовали в общем бизнесе. Словом, у них сохранялась тесная связь.
– Ради денег, – вставила Кирилловна.
– Пусть так. Но, в сущности, не столь важно, что является скрепкой для брака, главное, что она его держит. Я это к тому, что при этом у Эммы были открытые близкие отношения с другим мужчиной, о которых знал муж. Так что же в таком случае удивляет вас по части ее фривольностей с беззубыми художниками? Это совершенно обычное для нее поведение.
– Нет, Васенька, это было демонстративное поведение! – яростно заключила Кирилловна. – То, о чем ты говоришь – мы это много раз обсуждали! – с этой Эммой и ее двойной игрой, – темная история. Но что бы там у нее ни было с Леней, она могла бы просто из элементарного уважения к его памяти сдерживать свои инстинкты. По-моему, это очевидно и даже кошке понятно.
– Сдерживать? А зачем?! Ты ж сама видишь: никто ее поведение не осуждал. Напротив, кажется, она была королевой вечера тогда. Тебе не приходило в голову, что этот одиозный роман с нашим с тобой общим другом – самое сильное ее переживание? И она хотела его продлить всеми мыслимыми способами, даже вот таким парадоксальным. Снять все сливки! Может, она никогда раньше не чувствовала себя в центре мужского внимания. Я как раз об этом и начал рассказывать… Мы с моей бывшей приехали на дачу к одним симпатичным, но не близко знакомым мне ребятам. Я тогда зажигал со всеми, считая неразборчивость эффективным методом познания. И вот тогда мы застали какие-то объедки праздника, потому что хозяева дома накануне рассорились. Иришка, хозяйка дома, куда-то убежала в обиде, а ее муж Борька… в компании Эммы и еще каких-то случайных хлыщей бодрячком продолжал банкет. Нетрудно догадаться, кто был его спонсором… И в этом прокисшем антураже, среди понабежавшей халявы Эмма чувствовала себя прекрасно и, как вы изволите выражаться, висла на шее у Борьки. «Вот козел!» – подумал я. А про Эмму ничего не подумал. Шляясь с Ленькиной шоблой, она… как бы продолжала быть с ним. И я понимаю ваши чувства, это низкий способ помнить – но хотя бы такой! Вот как вы про памятник сказали: хотя бы такой…
– А теперь послушай мою версию! – с колкой обидой того, кто принес кролика в шляпе, а его все никак не дадут явить почтенной публике, изрекла Настасья Кирилловна. – Эмма наверняка знала о слухах по поводу ее причастности к смерти Лени или причастности ее мужа – не суть. А может, она априори понимала, что молва такая пойдет. И тогда она… начала заводить интрижки напоказ. Собственно, никаких отношений с этими беззубыми или зубастыми типами у нее и не было, но важно, чтобы мы все думали, что они есть! Что у Эммы действительно так называемый свободный брак, что ее мужу наплевать, где она и с кем. Понимаешь?! То есть она снимает с него и с себя всякие подозрения. Но ведь если они с муженьком были бы совершенно ни при чем, так вряд ли она бы вообще озаботилась защитой своей репутации… Словом, это косвенная улика.
– Нет, улика – это другое, – задумчиво возразил Василий. – Да и… стратегия преступника, если предположить, что она преступница, тут слишком уж тонкая. Мне думается, это не про Эмму.
– Понятно, что через столько лет моя догадка бессмысленна! – не уступала Настасья. – Но у меня в голове словно пазл сошелся, когда я это поняла. Я всегда не могла понять… какой-то в этой Эмме диссонанс, надуманность, наигранность…
– Все наши догадки о Ленькиной смерти бессмысленны.
Василий это сказал в большей степени самому себе. У него слишком долго не было достойной задачи, над которой он мог бы всласть поломать голову, а в таких случаях он обращался к давно минувшему и до сей поры так и не обретшему достойного объяснения. Хождение по кругу!
Настасья Кирилловна после того разговора осталась явно разочарованной. Ее компаньон по догадкам и версиям не поддержал праведного порыва. В нем проснулась какая-то неуместная и бестактная рациональность. Василий сам себя корил за ту разумную провокацию, которой порвал милые аргументы Кирилловны в клочья. Она-то наивно верила, что любым своим подозрением можно помочь следствию. «Мы могли бы пойти и дать показания…» Куда и кому мы могли бы их дать, когда и дела-то уголовного не было! Уж не говоря о том, сколько воды утекло.
– И ты смогла бы заявить на Эмму исходя из своей очаровательной дамско-детективной догадки? – насмешливо вопрошал Василий.
Настасья Кирилловна оскорбленно молчала. Это ж совершенно другой поворот! Одно дело – ломать картонные копья за невинно погубленного друга, другое – вполне осязаемый донос. Но уличить в таком намерении человека отчаянно гуманного – жестоко.
Потом Василий с благодарностью вспомнит этот день, и эту версию Кирилловны, и ее запал – потому что она умела, сама того не зная, почувствовать верную тропу сюжета.
2. «Эта музыка будет вечной…»
София боялась радоваться – и трещала по швам от рвущейся наружу бесстыдной оголтелой надежды. Наконец-то… ее пригласили на собеседование! Как глупо и унизительно радоваться этому ей, стреляной воробьихе. Наконец что-то стоящее! Но не сметь обольщаться! Она долго пыталась урезонить себя привычной формулой «так уже было, много раз было, и что потом…», но чувствовала, как катастрофически впадает в ничтожество. Методика «антисглаз», которая заключается в притворном глухом пессимизме, стала непосильным ритуалом. Чертовски сложно держать тело в аристократической схиме, когда хочется… жрать!
И как только люди умудряются экономить на еде?! С голодным мрачным раздражением вникая в магазинные акции и скидки, Соня тем не менее никак не могла уложиться в назначенный себе лимит. Говорят, самое выгодное – варить суп. Как бы не так! Если его варить не только для Андрюхи – а для ребенка это необходимый элемент рациона, как внушили нам предки! – но и самой к этому супчику прикладываться, то его совсем ненадолго хватает! Поборники здорового питания проповедуют и его ценовую доступность – если, конечно, не лениться и готовить, готовить, готовить… Но так можно тихо сойти с ума. Нет, организму категорически необходима эндорфиновая пища, а она числится вредной. И недешевой! Только не надо про бананы и шоколад – это сказки для младшего школьного возраста. Измотанному и израненному горьким опытом организму требуется… ну, хотя бы кофе не меньше шести кружек в день. Приличного, а не со вкусом подгоревших опилок, который покупаешь из экономии и пьешь с чувством проглоченной мухи. Вспомните слова Фроси Бурлаковой: «Мне бы чаю стаканов шесть». Во-от, а прожив нервной взрывной городской жизнью, она наверняка заменила бы чай на кофе, если не на что-либо покрепче… К тому же здоровой пищей Соня катастрофически не наедалась! А сладости… они стали совершенно непредсказуемы! Даже раскошелясь на давно любимое и шикарное, можно получить отвратительную пальмовую подделку. А уж что говорить о повседневных печенюшках, которые когда-то поедались килограммами, а ныне совершенно несъедобны! Соня спрашивала себя – может, это синдром изобилия? Истерия ненасытного потребления, притупившая вкус?
Возможно. Но как нелепо оказаться избалованным бессребреником…
Впрочем, есть еще порох, и не все пока опротивело – и хлеб насущный таки пока держится в лидерах списка соблазнов. Ведь тут и там проросли уютные пекарни с дивными расстегаями и пирожками под названием «мешочки с вишней и яблоками». Вкуснейшие… но цены-то на них космические! Нет, на еде стало совершенно невозможно экономить. А еще надо учесть внезапные гастрономические прихоти, когда вдруг ни с того ни с сего мучительно хочется жареной картошки с солеными груздями! И как назло, именно тогда, когда ты этого совершенно не заслужила: дядя Боря, мамин сосед-грибник, так и не поздравлен с юбилеем! А ведь маменька просила…
Словом, все, кто знал Соню близко, считали ее капризной привередой по части еды. Разумеется, без осуждения, но с насмешкой – особенно обидной сейчас, в темную полосу нужды. Ничего не оставалось – пришлось низко пасть и просить деньги у больного отца. А ведь это она должна была ему помогать!
Больной человек с трудным характером – это двойной урок смирения. Но София его выдержала, вернее, умело притворилась, заранее превратившись в соляной столб. Это возможно, если потратишь минут десять на медитативное самовнушение, которое в числе прочих висело над рабочим столом, приколотое булавками к обоям. Оно переводило отца в ранг чужих людей, которые ничем не обязаны Софии и которые совершают великое благо тем, что ей хоть чем-то помогают. После моментального, бодряще-обжигающе-ледяного погружения в бездну становилось действительно проще. Посмотри на близкого человека, как на прохожего, – и все ужасы родства на несколько минут утратят силу, как боль от морфия. И даже может нежданно выпрыгнуть из пучин отчуждения шальная рыбка благодарности.
Но вот визит к отцу закончен, и начинается самое трудное: дверь за Софией захлопнулась, она раздета – с нее сорван волшебный плащ иллюзии. Иллюзии, что она укрыта заботой, как елочка под снегом, что она все еще колючая веточка на родовом древе. Сегодня прокатило, на полмесяца денег хватит – а дальше? София приехала домой, съежившаяся в разгар жары от настойчивых перспектив, нарисованных папенькой: «Ты готовь Андрея в кадетский корпус, ты сама его не прокормишь…» В свете недавнего скандала с отравлением детей именно в кадетском корпусе – да разве важно, что в другом городе! – София ощетинила на родителя внутреннего тигра… Но тут же взяла себя в руки. Он дал деньги, он теперь чувствует себя вправе побесноваться – но его надолго не хватит. Он выдохшийся хищник.
Но, боже, почему не жизнь, а сплошная репрессия?! Спасительный звонок прозвенел утром. Дал помучиться полночи. И вдруг уважительный голос:
– София, нам понравились ваши работы. Мы хотим поговорить с вами насчет возможного сотрудничества…
Соня изо всех сил старалась не выдать ликования. Назначила встречу «лучше в четверг», создавая ореол своей востребованности и загруженности. Но это скорее по привычке, на всякий случай. Она была убеждена, что этим невинным блесткам, пускаемым в глаза «нужным людям», давно никто не придает значения. Нынче о человеке можно узнать почти все, не встречаясь с ним вовсе, и это грустно… словно ты уже умер!
– Я могу подъехать в удобное для вас время и привезти вам сборник! – надрывалась Соня произвести хорошее впечатление на студию документальных фильмов, куда очень хотела попасть. Речь шла о сборнике лучших сценариев короткометражек… Пусть это был малоизвестный конкурс, каких нынче тьма, пусть его давно закрыли – но в сборнике был и ее сценарий!
– Нет, спасибо, пришлите ссылку на конкурс, мы посмотрим… – был ответ, по которому, в общем-то, все было ясно. Ведь опыт показал, что Соня зря принимает отстраненность за неминуемое следствие цифровой эпохи. Не важно, что в масштабах статистики это так. Важно, что когда именно ее не особенно хотели видеть, то ее не хотели видеть, и больше ничего. А она, глупая, пыталась объяснить, что сборника нет в Сети, что он получился интересный и необычный, что талантливые ребята… и так далее и, к сожалению, везде.
Но теперь-то, теперь с ней желали встретиться лично! И она знала, что без личных реальных телесных взаимодействий ничего в мире не получается, и виртуально пока еще не покушаешь и не поспишь, не посмеешься и не поплачешь и не родишь ребенка, а что до суррогатов секса, то они так и остались суррогатами. В общем, на пятой чашке кофе Соня уже лихорадочно соображала, что она наденет на эту встречу – единственную за полгода, а потому судьбоносную.
– Нет-нет, это будет очень быстрая работа! – категорично встряла в разговор особа в клетчатой шляпке. Она как-то незаметно встроилась в пространство кабинета и искала что-то на полках с книгами, гроссбухами и толстыми офисными папками. Она словно и не входила, а материализовалась здесь, и вроде как не прислушивалась к разговору – но встряла очень вовремя.
Милый мужчина в загадочно синем костюме с усталой симпатией взглянул в ее сторону.
– А это Стелла, руководитель нашего творческого звена, – представил он «шляпку».
Соня с дежурной улыбкой кивнула.
– Насколько быстрой должна быть эта работа? – спросила она, не сумев скрыть дурные предчувствия.
– Полтора месяца, – заявила не моргнув глазом Стелла.
Именно в этот момент Соне стало понятно, что шляпка скрадывает недостатки фигуры, обыденность лица и дурной характер. И венчает все это несовершенство имя Стелла… жестокое сочетание! Без клетчатой шляпки не обойтись.
– Это шутка? Вы даже еще не поняли, в какой форме вы хотите… или заказчик хочет запечатлеть себя для истории. Это будет фильм или фотоальбом с историями, как вы мне писали, или это будет…
– Нет-нет, дорогая Соня, мы уже все решили! – всплеснул руками милый мужчина. – Мы будем делать ролик. Минут на пятнадцать. Дольше никто смотреть не будет. Ролик о бессмертии. – И все мелкие морщинки на лице милого человека сложились в удивительный солнечный рисунок, стремящийся к одному центру.
«Понятно. Очередной бред». – Соня уже лила внутренние слезы по несбывшемуся авансу, что, видимо, отразилось и во внешних чертах, ибо Стелла в дурацкой шляпке заметно напряглась насчет бессмертия. Она неожиданно шумно подсела за стол переговоров и в нескольких штрихах обрисовала задачу, походя оттеснив синий костюм. Рабочая перспектива вряд ли стала намного яснее. София пронзительно пожалела о том, что придется иметь дело с ней, а не с милым человеком.
Итак, планы у конторы под названием – вы не поверите! – «Земляничные поляны» были грандиозные. Ролик – это лишь вершина айсберга. Потом был запланирован чуть ли не второй «Улисс» по значению – только не в масштабах мировой литературы, конечно, ведь это слишком мелко! Будущий талмуд потрясет основы мироздания. Это будет книга, в которой все объяснят про то, как хранить сознание гения вечно. То есть, допустим, Бах умер, но продолжает сочинять музыку. Можно представить, сколько он еще устроит полифонических революций! Шутя напишет рэп… В общем, задаст вселенной жару!
– Да, у нашего заказчика амбициозный проект! – упивалась шляпка заодно и своей сомнительной значимостью. – Но делать его нужно быстро. Это новое поколение, у них все расписано, каждая минута на счету. Они очень рациональны, если не сказать – прагматичны, в использовании своих ресурсов. Он выделил для интервью с ним два часа в следующее воскресенье. Прошу вас освободить это время…
Соня представила, как Матфей, Марк и Лука пишут Евангелие наперегонки, а хитрый Иоанн обгоняет их на повороте…
– А кто он, этот заказчик? – Мысленно ущипнув себя, сосредоточившись и едва скрывая раздражение, она, наконец, вставила свой вопрос по существу. В конце концов, ее пока никто не спросил, согласна ли она плясать под дудку каких-то самоуверенных юнцов…