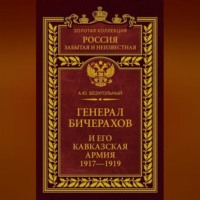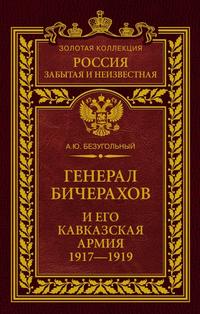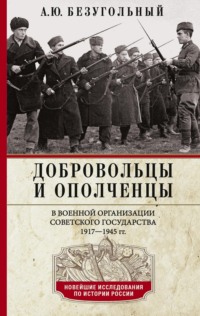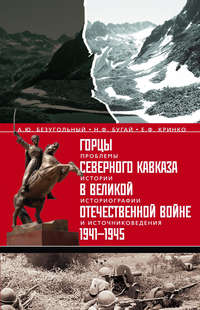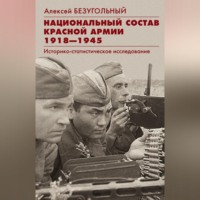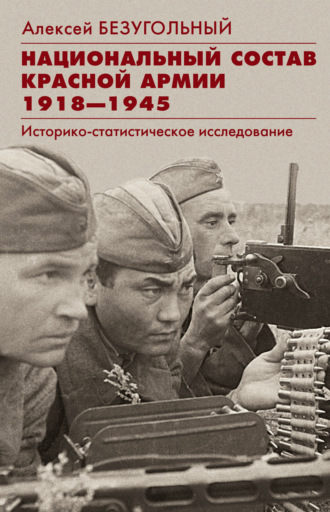
Полная версия
Национальный состав Красной армии. 1918–1945. Историко-статистическое исследование
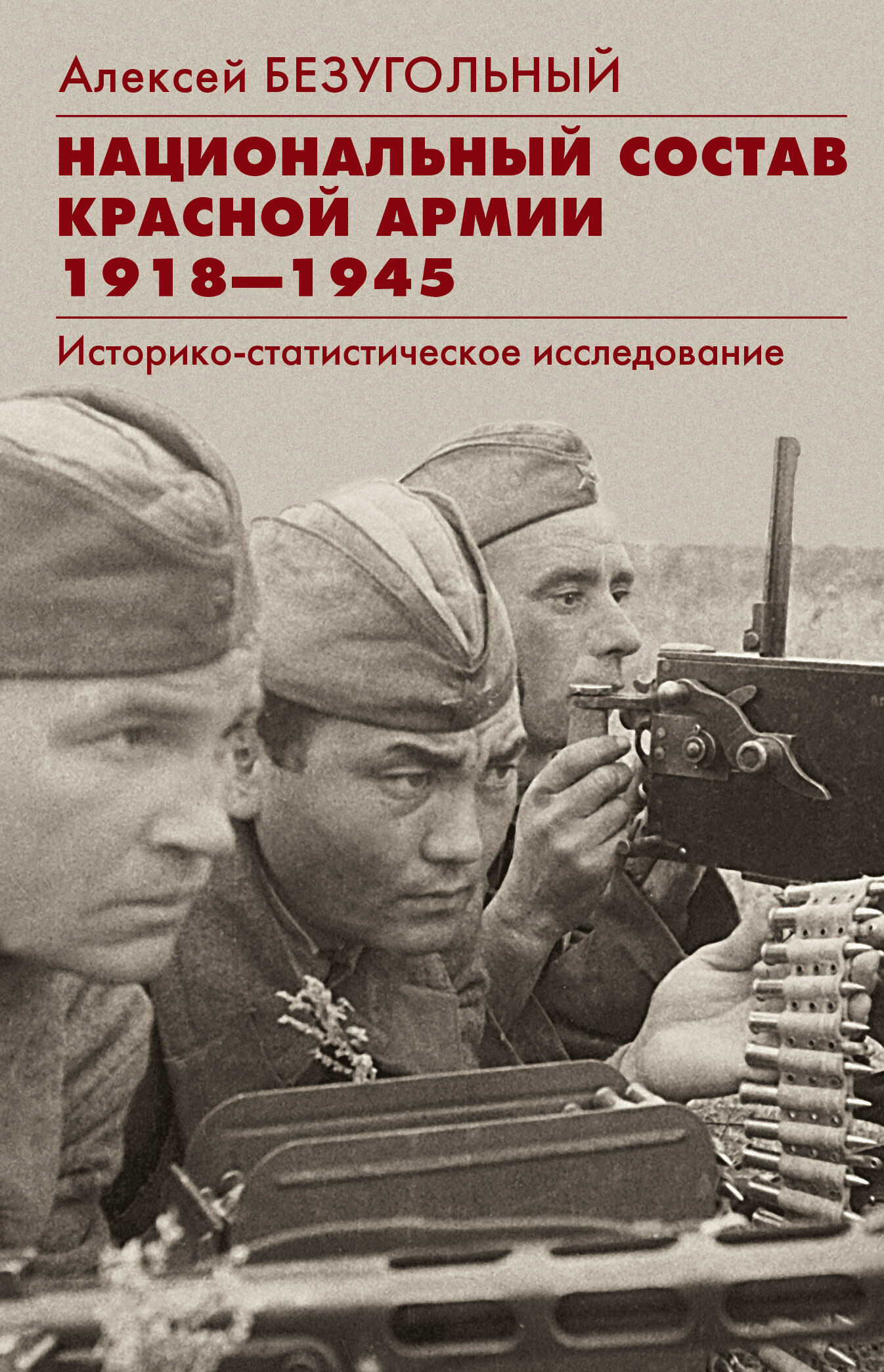
Алексей Юрьевич Безугольный
Национальный состав Красной армии. 1918–1945. Историко-статистическое исследование
© Безугольный А.Ю., 2021
© «Центрполиграф», 2021
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2021
Введение
Российская Федерация – полиэтничная страна, вооруженные силы которой традиционно комплектуются представителями всех населяющих ее народов. В действующей «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» изложена современная целевая установка органам государственного и военного управления в национальном вопросе. Стратегия требует «учета этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей»[1].
Между тем нередко военнообязанные из национальных регионов России (в современных условиях речь идет прежде всего о контингенте из республик Северного Кавказа) нуждаются в определенной социальной, культурной и языковой адаптации к военной службе. Это обстоятельство постоянно ставит перед органами государственного и военного управления массу практических вопросов, которые приходится решать с каждым очередным призывом. Призывать ли на военную службу молодежь из национальных регионов? Если да, то конкретно каких национальностей и в каком количестве? Как организовать прохождение ими военной службы: общим порядком в обычных воинских частях или же особым, в составе национальных формирований? Как обеспечить их органичную интеграцию в воинский коллектив, избежав конфликтов и, напротив, обратив на пользу дела особенности их национального характера?
Опыт строительства вооруженных сил современной России показывает, что устоявшихся взглядов, которые были бы выражены в определенной и последовательной государственной политике при комплектовании войск представителями ряда народов России, до сих пор нет. Так, на территории Чеченской Республики последний полноценный призыв граждан в ряды вооруженных сил проводился в 1992 г., после чего он прекратился более чем на двадцать лет. Лишь с 2015 г. чеченцы в незначительном числе вновь призываются на службу в армию и в другие силовые ведомства. В ряде других республик Северного Кавказа военный призыв формально не отменялся, однако путем квотирования призыва руководство российских вооруженных сил существенно сократило приток в войска молодежи коренных национальностей.
Нет сегодня и единого взгляда на необходимость содержания в современных Вооруженных Силах России национальных воинских формирований. В 2000–2010-х гг. в структуре Минобороны РФ и Внутренних войск МВД РФ существовало четыре батальона[2], комплектовавшиеся преимущественно чеченцами. Эта мера облегчила процесс легализации участников незаконных вооруженных формирований, многие из которых перешли на службу законной власти. Чеченский батальон МО РФ «Восток» принял участие в операции ВС РФ на территории Южной Осетии против грузинских войск в 2008 г. Но постепенно все чеченские подразделения были расформированы. По поручению президента РФ в начале 2010-х гг. прорабатывалась возможность создания национального полка или же одного-двух батальонов из представителей народов Дагестана, но она не была реализована[3]. С 2016 г. боевую службу на территории Сирийской Арабской Республики несут подразделения военной полиции Минобороны России, укомплектованные по национальному признаку чеченцами, ингушами, жителями Дагестана. Таким образом, определенный опыт национальных формирований в современной России есть. Но в целом вопросы комплектования войск уроженцами Северного Кавказа и формирования национальных частей решаются ситуативно, под влиянием политических обстоятельств.
Между тем существует богатая, разнообразная, но до сих пор мало изученная историческая практика, связанная с комплектованием отечественных вооруженных сил представителями различных народов. Данная книга посвящена наиболее плодотворному и массовому советскому опыту, хотя в ней затронута и предыстория многих начинаний, позднее реализованных советской властью.
С первых дней опора большевиков на местные этносы, пребывавшие при самодержавии в неравноправном по отношению к великороссам социально-правовом положении, стала одним из главных факторов развития революции и советского строя на окраинах бывшей Российской империи. Ставка на нерусское население имела свою специфику, определявшую и особые сценарии развития здесь Гражданской войны. Большевикам в целом удалось «оседлать» национальные движения, направить их в нужное для себя русло и воспользоваться плодами их борьбы, в том числе вооруженной поддержкой со стороны местного населения. После окончания Гражданской войны формирование национальных частей в составе Красной армии было объявлено важной политической задачей, поскольку, по мысли советского руководства, оно способствовало скорейшей интеграции жителей национальных окраин в советский социум. В рамках территориально-милиционной системы комплектования в 1920–1930-х гг. национальные формирования достигали 10 % численности всей Красной армии. В Великую Отечественную войну призыв местных национальностей в союзных и автономных республиках, а также строительство национальных воинских частей получили мощный импульс в связи с большими потерями личного состава и оккупацией врагом традиционной зоны комплектования Красной армии – значительной территории европейской части СССР.
Данное исследование нацелено на обобщение исторического опыта деятельности органов государственного и военного управления в тех аспектах строительства Вооруженных Сил СССР, в которых этнический фактор имел существенное значение, а именно: порядка и способов комплектования рядов РККА национальными контингентами, подготовки национальных военных кадров, организации прохождения военной службы нерусским контингентом военнослужащих и другие вопросы. Сразу нужно подчеркнуть, что мы не ставили перед собой цели осветить военную историю народов нашей страны, боевой путь национальных воинских формирований, ратные подвиги отдельных представителей нерусских этносов – все это уже многократно описано.
Фокус исследования направлен на другое. В первые десятилетия существования советской власти, определившие хронологические рамки монографии, был получен уникальный опыт по привлечению представителей народов СССР в ряды Красной армии. Эта работа носила целенаправленный и систематический характер (по крайней мере, обе эти тенденции определенно проявились после окончания Гражданской войны). Она велась не только для накопления обученного резерва для комплектования РККА на случай общей мобилизации, но и являлась важнейшим политическим инструментом вовлечения национальных окраин в социалистическое строительство, одним из главных элементов которого было военное строительство. Иных подобных периодов в истории нашей страны не было. Рассмотрение вопросов, связанных с комплектованием вооруженных сил и организацией военной службы представителей народов СССР в рядах Красной армии, является актуальной научной проблемой, поскольку не только отвечает на острые вопросы, связанные с историей советских вооруженных сил, но и проливает свет на особенности государственной национальной политики.
Этнонациональный аспект строительства Красной армии рассмотрен строго в контексте эволюции государственной национальной политики в 1918 г. – первой половине 1940-х гг. Взаимосвязь и взаимозависимость этих двух исторических процессов еще никогда не становилась предметом специального изучения.
Методологически исследование основано на диалектическом подходе, позволившем рассмотреть зависимость количественных и качественных изменений национального состава Красной армии от общего курса национальной политики Советского государства и особенностей строительства вооруженных сил. В работе отражены принципы диалектического подхода – историзма, объективности, всесторонности, конкретности, противоречия.
Помимо традиционных методов исторического исследования, особое внимание в работе уделено количественному методу, которому следует уделить несколько слов, ибо предшествующие исследователи темы обращались к нему лишь эпизодически. Впервые в настоящей работе анализ национальной проблематики в военном деле осуществлен с опорой на выявленные в ходе исследования учетно-статистические материалы органов государственного и военного управления.
Автор исходил из диалектического понимания неразрывной связи количественной стороны массовых общественных явлений с их качественной стороной, того, что цифровое отражение содержательных аспектов изучаемых явлений и процессов служит самым надежным и точным способом оценки исторической действительности.
Согласно традиции отечественной клиометрической школы, суть количественного метода состоит в «выявлении и формировании системы численных характеристик изучаемых объектов, явлений и процессов действительности, которые в ходе математической обработки создают основу для раскрытия количественной меры соответствующего качества»[4]. Таким образом, речь идет о формализации и анализе статистической информации исторических источников с помощью математических инструментов. То есть текстовая информация переводится в математическую форму, и к ней можно применять математическую логику, формулы, методы анализа. Их можно просчитать, сравнить, выразить в долевом отношении. Визуализируется это в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Отметим, что традиционно клиометрические исследования ведутся преимущественно по социально-экономической проблематике. Однако анализ статистического материала вполне допустим и даже желателен и в отношении проблем военного строительства, ибо предметом исследования являются большие массы людей, обладающих хорошо отличимыми признаками (национальность, воинское звание, грамотность и образование, язык, возраст и др.). Можно согласиться с автором диссертации по истории русской военной статистики К.А. Маланьиным, который так формулировал место военной статистики в научном осмыслении процессов военного строительства и военного искусства: «Исходя из требований военной науки, военная статистика анализирует соотношения массовых цифровых показателей военной действительности в конкретных условиях места и времени, вскрывает количественные выражения закономерностей войны и военного искусства, помогая теории и практике в более успешном решении стоящих перед ними задач»[5].
Внедрение статистического инструментария в военно-историческое исследование не было самоцелью. Оно носило строго прикладной и минимально достаточный характер и применялось лишь в той мере, в какой того требовало решение поставленных задач. В данной работе использовались некоторые методы анализа статистического материала, практикуемые клиометрией, например сравнение статистических рядов (при анализе социально-демографических характеристик представителей различных национальностей), статистическое моделирование (графическое выражение образа реального исторического объекта или процесса с акцентированием значимой для исследования стороны) и т. д.
Анализ статистических данных о комплектовании и организации Красной армии был положен в основу всей исследовательской конструкции. С этой целью нами выявлена обширная источниковая база, содержащая статистические данные о личном составе РККА за весь изученный период. Их анализ позволил провести сравнительно-статистическое исследование абсолютных и относительных количественных показателей, характеризующих этнические аспекты комплектования, подготовки кадров, организации войск в отношении десятков основных этносов, населявших СССР в изучаемую эпоху. Такой подход придал сделанным по итогам работы выводам обоснованность, точность и объективность.
Понятийный аппарат исследования требует некоторых пояснений. Основные дефиниции даются в современной трактовке в соответствии с законодательством Российской Федерации в области национальной политики[6] и военной службы[7]. Правописание основополагающих исторических терминов (Красная армия, вооруженные силы, Советское государство, советская власть и т. д.) сверено по современным академическим орфографическим и специализированным словарям[8].
Часть используемых определений, широко применявшихся в нормативно-правовых актах и делопроизводственном обороте 1918-1945 гг. (например, коренизация, концентрация, украинизация, белорусизация, культурничество, вневойсковик, номерная воинская часть и т. д.), архаизировалась и ныне полностью вышла из употребления. Их семантика в данном исследовании полностью аутентична источнику. Содержание такого рода терминов раскрывается непосредственно в тексте. В книге они приводятся без кавычек, курсивом; но в цитатах не выделяются.
Другая часть терминологии, связанная с военной и этнонациональной проблематикой исследуемого периода, присутствует в современном нормативно-правовом и научном обороте, но претерпела серьезные смысловые изменения. Употребление этих терминов нуждается в специальных пояснениях, которые приведены ниже.
Структура исследования связана с одним из основополагающих устойчивых понятий военной теории и практики – строительством вооруженных сил. Под ним понимается система взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых высшими органами государственного и военного управления, направленных на создание, развитие, оснащение, содержание и подготовку вооруженных сил к выполнению возложенных на них задач мирного и военного времени[9].
Большую часть изученного периода (до 1939 г.) термины вооруженные силы и Красная армия (РККА) употреблялись как синонимы. К тому же виды Вооруженных Сил СССР (сухопутные силы, военно-воздушные силы, военно-морской флот) находились в синкретическом единстве, являясь составной частью РККА (лишь в 1937 г. в отдельный вид был выделен флот). Лишь с введением в действие 1 сентября 1939 г. нового закона о всеобщей воинской обязанности термины вооруженные силы и Красная армия получили новые дефиниции, противоположные прежним: теперь первый стал родовым для второго. Исходя из традиционной трактовки этих терминов, в данном исследовании они используются как синонимы.
Синонимами являются и термины Красная армия и РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия). Большую часть изученного периода они сосуществовали, причем РККА чаще употреблялось как официальное наименование. Однако перед Великой Отечественной войной аббревиатура была выведена из оборота и за Советской армией в годы войны закрепилось единое наименование – Красная армия. Специального постановления о переименовании не издавалось. Считается, что рубежом стали приказы НКО № 0037 и 0038 от 26 июля 1940 г., объявившие новую структуру центрального аппарата НКО и Генерального штаба. Там употреблялось только наименование Красная армия. Исключение составило Политуправление (с 1941 г. – Главное политуправление), всю войну носившее официальное наименование Главное политуправление РККА. В книге учтены эти изменения.
Под часто употребляемым словосочетанием органы государственного и военного управления понимаются органы законодательной и исполнительной власти общесоюзного и республиканских уровней и центральные и местные органы военного управления. В то же время автор ясно отдает себе отчет в том, что первостепенное значение в принятии всех важнейших управленческих решений имели руководящие органы Коммунистической партии. Место РКП(б)/ВКП(б) в механизме управления государством конституционно не было четко оформлено, а в первых двух Конституциях страны (1918 и 1924 гг.) Компартия даже не упоминалась. В Конституции 1936 г. только указывалось, что ВКП(б) является «передовым отрядом трудящихся» и «руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» (ст. 126). В действительности решения партийных органов дублировались органами власти или оформлялись как совместные постановления партии и правительства. В монографии подробно проанализированы механизмы принятия государственных решений в области национального вопроса и место в них партийных органов.
Национальная политика. На современном этапе термин национальный не имеет однозначного толкования и может пониматься в узком (этническом) и широком (общегосударственном) значениях. Последнее сейчас очевидным образом доминирует (национальная оборона, национальный проект, национальная спортивная команда и т. п.). Сложилась двусмысленная ситуация. В действующих нормативно-правовых актах РФ термин национальная политика еще используется в своем традиционном значении, то есть как государственная политика в отношении населяющих страну этнических общностей. Это следует, в частности, из утвержденных в 1996 и 2012 гг. президентами РФ «Концепции государственной национальной политики РФ» и «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.», а также утвержденной постановлением Правительства РФ в 2016 г. Госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики» и других документов[10].
В то же время государственные органы управления и научная среда сейчас берут на вооружение термин этнонациональный, семантически соответствующий традиционному термину национальный. Это отмечено в специальном приказе Министерства образования РФ от 3 августа 2006 г. № 201 «О концепции национальной образовательной политики Российской Федерации». Здесь, в частности, указывается на то, что термин этнонациональный возник «в современной отечественной научной среде с целью выхода из терминологического тупика, вызванного возникшей двоякой семантикой понятия „национальный“. Раскрывается [этот термин] как „национальный“ в его прежнем значении, то есть относящийся к народу, этносу»[11]. Минобразования РФ предпочитает именно этот термин в своем нормотворчестве. В последней редакции утвержденной Указом Президента РФ «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» (ред. от 8 декабря 2018 г.) парные термины «межнациональный» и «межэтнический», «национальность» и «этническая принадлежность», «национально-культурный» и «этнокультурный» используются как полные синонимы и именно так определены в разделе об основных понятиях Стратегии (пункт 4.2).
В представленной работе термин национальная политика употребляется в традиционном значении – как государственная политика в отношении населявших СССР народов (этносов). Под национальной политикой имеется в виду деятельность органов государственной власти, партий или общественных групп по регулированию экономических, правовых, идеологических, культурных и языковых отношений между нациями, народностями и этническими группами[12]. Термины национальный и этнонациональный употребляются как синонимы.
Под национальным вопросом в строительстве Вооруженных Сил СССР в 1918 – первой половине 1940-х гг. понимается комплекс проблем, стоявших перед органами государственного и военного управления в связи с военной отсталостью и неравноправием ряда народов СССР в военной организации страны, а также неопределенностью правового содержания и организационных форм несения ими военной службы в рядах Красной армии[13].
Под национальным аспектом строительства вооруженных сил понимается политика Советского государства в сфере решения национального вопроса в строительстве вооруженных сил, а именно: поиск и определение оптимальных правовых и организационных форм комплектования и прохождения военной службы для представителей народов СССР с учетом их языковых, культурно-религиозных, образовательных особенностей; формирование национальных (то есть этнически однородных) воинских частей; подготовка национальных (то есть из представителей нерусских этносов) военных кадров; определение форм и методов партийно-политической работы с национальным контингентом военнослужащих и совершенствование межнациональных отношений в армии. В источниках (как в нормативной, так и в делопроизводственной документации органов государственной власти и военного ведомства, особенно в 1920-х гг.) в этом же значении повсеместно употребляется термин «национальное военное строительство». Однако его использование в исследовании автор посчитал нежелательным, из-за принципиального различия в содержании современных терминов «военное строительство» и «строительство вооруженных сил».
Национальные воинские формирования – подразделения, части и соединения, укомплектованные преимущественно представителями одного народа, чей этноним выносился в их название. Такие формирования создавались с 1918 по 1945 г. по решению высшего органа государственной власти РСФСР/СССР (съезда Советов; Центрального Исполнительного Комитета; с 1936 г. – Верховного Совета), правительства (Совета Народных Комиссаров РСФСР/СССР), военного ведомства (Народного комиссариата по военным и морским делам; с 1934 г. – Народного комиссариата обороны), а также высших чрезвычайных государственных органов власти и военного управления в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Государственного Комитета Обороны СССР и Ставки Верховного Главнокомандования).
Военнообязанные, призывники, допризывники – термины, выведенные из современных нормативных актов РФ, регламентирующих военную службу граждан, но по-прежнему имеющие широкое употребление, в том числе в специальной военно-энциклопедической литературе[14]. В монографии эти термины употребляются в соответствии с законодательными нормами изучаемого периода. Закон о всеобщей воинской обязанности 1939 г. выделял две категории граждан, обязанных несением военной службы: лиц 17–18 лет, уже приписанных к призывным участкам, но не прошедших процедуру призыва (призывников), и лиц, зачисленных в запас (как прошедших действительную военную службу, так и не прошедших) и состоящих на воинском учете в местных органах военного управления – военнообязанных[15]. В более раннем призывном законе 1925 г. также используется термин допризывник, совпадающий по содержанию с термином призывник закона 1939 г. Здесь же выделена категория военнообязанных запаса[16]. Несмотря на некоторые терминологические различия, оба закона четко выделяют две категории советских граждан (кроме самих военнослужащих), обязанных несением военной службы: 1) молодежь, не прошедшую процедуру призыва и действительной военной службы, и 2) лиц старших возрастов, зачисленных в запас с присвоением военно-учетной специальности (ВУС). В контексте данного исследования это разделение важно, поскольку качественные и количественные характеристики призывников и военнообязанных в национальных регионах в исследуемую эпоху существенно различались.
Нерусский народ – термин, повсеместно употреблявшийся в делопроизводственной документации государственных органов власти и органов военного управления в 1920-х – первой половине 1940-х гг. Обозначает все советские этносы, кроме русского, с которым, в свою очередь, их социально-демографические характеристики соотносились как с эталоном. Ныне этот термин также часто используется в этнографической, этнолингвистической и исторической научной литературе, в том числе и в диссертациях[17], хотя и вышел из официального оборота органов власти из-за возможных негативных коннотаций.
Национальные регионы РСФСР и СССР – термин, имевший широкое хождение в делопроизводстве изучаемого периода. Под национальными регионами имелись в виду союзные и автономные республики, автономные области и округа, то есть все административные территории Советского Союза, где признавался политический приоритет нерусского титульного этноса (или нескольких титульных этносов). Этноним закреплялся в наименовании региона. В качестве исключения под национальными понимаются полиэтничные регионы с преимущественно нерусским населением, но носившие исторические или искусственные наименования (например, Дагестанская АССР, Горская АССР и ряд других).
Начальствующий, командно-начальствующий, офицерский состав. Термин командный состав введен в РККА в 1919 г.; при этом командный состав отделялся от лиц административной службы[18]. Было определено, что к категории лиц командного состава относятся: в строевых частях – все должностные лица, состоящие на командных должностях; в штабах, управлениях и учреждениях – лица, в чьем непосредственном ведении находились строевые части или команды. Все остальные должностные лица РККА относились к административному составу. В начале 1920-х гг. командный и административный состав был объединен в категорию начальствующего состава. До 1935 г. командный состав являлся составной категорией начальствующего состава, куда кроме командиров также включались лица политического, административного, военно-технического, военно-юридического и другого руководящего состава РККА. С 1935 г. командный состав был выделен в отдельную категорию и получил распространение обобщающий термин командный и начальствующий состав или командно-начальствующий состав. А с 1943 г. термины начальствующий и командный состав официально заменены на офицерский состав, хотя продолжали широко употребляться в делопроизводстве и в настоящее время распространены в военно-исторической и энциклопедической литературе[19]. В монографии эти термины употребляются в соответствии с их исторической эволюцией.