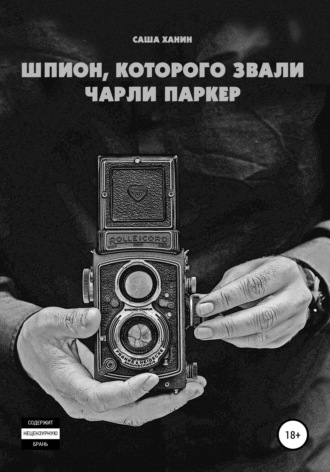
Полная версия
Шпион, которого звали Чарли Паркер

Саша Ханин
Шпион, которого звали Чарли Паркер
ДО ДЕЛИ ДАЛЕКО
( возвращение Кимбола О’ Хары)
Я расскажу о том, как меня не стало.
Ночь. Поезд. Плацкартный вагон, погруженный в лязгающую тьму. Керосиновые лампы мотаются туда-сюда на своих крюках и поскрипывают. В их закопченных стеклянных колбах дрожит, немного рассеивая мрак, красноватое пламя. Я иду через Ад Плацкарта. Здесь душно. Здесь скверно пахнет. На скамьях и полу вповалку спят туземцы. Я замечаю, что моя cорочка насквозь промокла от пота. Пот льется с моего лица ручьями. Предметы двоятся, троятся, змеятся. В голове тонко звенит циркулярная пила. Мне совсем худо. Что я делаю здесь?
Я бреду, спотыкаюсь о лежащий посреди вагона, нищий сброд. Я думаю уже, что так и помру здесь, среди этих ужасных людей, но все же, вываливаюсь, наконец, в тамбур. Стук колес оглушает. Дверь вагона распахнута настежь. На порожке, свесив ноги в отлетающую назад пустоту, сидит проводник-метис в своей форменной фуражке и курточке. Я приваливаюсь к стене и расстегиваю сорочку на груди. Пальцы, как вареные сардельки. По тамбуру гуляетветерок, он пахнет паровозным дымом. Мне становится легче дышать. Проводник-метис оглядывает на меня и снова отворачивается. У него в руке – маленькая фляжка. В дверном проеме стоит без движения полночное индийское небо, полное звездной пыли и блеска, рукава спиральных галактик, как огненные колеса, осыпаются искрами, а под этим небом, на сложенной из беспросветного мрака спине покатого холма перемигиваются далекие красноватые огоньки. Деревня, наверное, или караван остановился на ночлег… Я закрываю глаза. Я толстый шпион. У меня местная амнезия. Я много чего не помню. И я толком не помню, то, что я помню. Я еще не провел ревизию уцелевших воспоминаний. Я не помню деталей нашей последний индийской операции. Я не помню, чем там у нас все кончилось. Провал или успех? Скорее всего, провал. Мой связной, добрейший доктор Хакенбуш дал мне адрес нашего человека в Италии, какой-то городок, Пейзаро, кажется. Вот здесь, в кармане у меня записка с адресом явки и именем агента.. Мысли путаются… Мне необходимо, как можно скорее покинуть Индию. Я еду в Дели. Там международный аэропорт… Я открываю глаза и смотрю на проводника-метиса, сидящего на порожке. Из папиросы, которую он курит, по ходу движения отлетают рубиновые искорки. Форменная куртка проводника и его фуражка напоминают мне отца. Мой отец, он тоже был проводником на Синдо-Пенджабо-Делийской железной дороге… Мой отец был кадровым военным, знаменщиком в ирландском полку. Мы жили в Фирозупре, в особняке с колоннами и балясинами, с запущенным садом, где среди ветвей баобаба ютился наш домашний питон Мафусаил. Я вспоминаю, тот вечер в Фирозупре… Циркулярная пила у меня в голове набирает обороты. Стены тамбура прихотливо изгибаются. Огонек в колбе керосиновый лампы становится темно-лиловым. Чернильные подводные тени норовят сойтись, сомкнуться передо мной наподобие театрального занавеса… Я шпион, повторяю я сквозь зажатые зубы, я толстый серьезный шпион. Я еду в Дели. Мне нужно попасть в Дели. Международный аэропорт. Италия. Городок, черт, как же его там… Имя связного… Я не помню имени связного. Его имя в записке. А записка вот здесь, в пиджаке, в кармане. Зато, я помню другое имя. Я помню, как меня зовут. Меня зовут Ким.
Я сижу в купе, за столиком прижавшись щекой к стеклу. Стекло горячее, цвета сепии от тонкого слоя пыли. Сквозь пыль мне видно бескрайнее поле, изувеченное ковровыми бомбардировками, а из-за поля в далеком далеко поднимаются фиолетовые горы, похожие на колотый лед. На краю поля, возле железнодорожного полотна сидят кружком крестьяне с мотыгами. Представление идет полным ходом. Пожилой факир, толстый дядька, вроде меня, хорошенько размахнувшись, бросает в небо обтрепанный канат. У каната случается эрекция. Крестьяне неслышными для меня возгласами, жестами рук и воздетыми мотыгами выражают свое изумление. Факир пару раз дергает за канат, но тот незыблемо уходит в небеса. Тогда факир подзывает своего помощника, чумазого и сильно худого мальчонку и с помощью хорошего пинка, направляет его к канату. Мальчик сноровисто карабкается вверх и вскоре пропадает в маленьком декоративного вида облачке. Жестами рук и воздетыми мотыгами, а так же, неслышными для меня возгласами, крестьяне выражают свое изумление искусством факира. Факир зовет мальчишку спуститься, а тот мочится на него из облачка. Тогда, взявши в зубы большую кривую саблю, факир сам забирается по канату и тоже пропадает. Пауза. И вдруг, о, ужас! на землю летят кровавые обрубки плоти. Факир спускается, сматывает канат и кланяется почтеннейшей публики. Крестьяне жестами рук, воздетыми мотыгами и возгласами (для меня не слышными) выражают свое изумление искусством факира. Потом все встают и расходятся по домам.
Я не люблю Индию.
– Вот так чудо! – восклицает тибетский лама, глядя за окошко. – Мне рассказывали об этом братья, но сам я такого еще не видывал. В наш родной монастырь Сач-Зене, расположенный против Крашенных скал, не часто захаживали индийские факиры.
– Базарный фокус, – комментирует полковник Хопкинс, крепкий седой старикан, со стальным блеском в глазах. – Этаких чудес в Индии, как блох на бродячем псе.
– Какой вы касты и где ваш дом? – спрашивает ламу госпожа Блаватская.
Она сидит подле полковника с тонким резным мундштуком слоновой кости в руке. С алого уголька папироски сползает, расплетаясь в полумраке купе, ленточка сизого дыма.
– Я пришел через Кулу, из-за Кайласа, – отвечает тибетский лама, – с гор, где воздух и вода свежи и прохладны. Мы последователи Срединного Пути и мирно живем в наших монастырях, а я собрался посетить Четыре Священных Места прежде чем умру.
После этих слов лама роется у себя за пазухой и, вытащив потертую деревянную чашу для сбора подаяния, зачем-то ставит ее на столик.
– И вот, как-то раз, – принимается рассказывать полковник Хопкинс, кстати, он в штатском, – я задержался после подобного представления, и что же вы думаете, я увидел? Когда крестьяне с мотыгами разошлись, этот вот мальчуган, только что изрубленный в капусту, вылез из придорожной канавы и стал помогать престарелому факиру, складывать реквизит. После факир сел на своего ослика, а его мальчик-слуга побежал следом, и оба скрылись в дорожной пыли, которую красиво подсвечивало заходящее солнце.
– Но, мы-то с вами просвещенные люди, полковник, – говорит Блаватская, играя длинным и тонким костяным мундштуком в не менее длинных и тонких пальцах. – И мы с вами знаем, что ни этой жуткой кровавой бани, ни этого, прости господи, эрегированного каната на самом деле не было. И, если уж на то пошло, не было решительно ничего кроме дюжины деревенских дурачков, сидящих тесным кружком на краю поля.
Полковник Хопкинс чуть заметно кивает госпоже Блаватской поверх широкого стакана с колотым льдом и золотистым виски.
– А вы, как полагаете, сударь? – спрашивает госпожа Блаватская Кима, то есть меня.
Я отлепляю от окна измятый и бледный пельмень своего лица и оглядываюсь на голос, в сумрак купе. У госпожи Блаватской огромные невозможного небесного цвета глаза, похожие на фарфоровые шары. В них нет и тени мысли, одна экзистенциальная пустота.
Госпожа Блаватская смотрит на Кима, Ким смотрит на госпожу Блаватскую. Дверь с лязгом отъезжает в сторону и в купе заходит проводник-метис с компостером в руке.
– От имени Синдо-Пенджабо-Делийской железной дороги имею честь пожелать вам доброго утречка, господа!
Мы предъявляем билеты. Я спрашиваю проводника, когда наш поезд прибудет в Дели. Проводник-метис замирает с компостером в руке. Его маленькое смуглое лицо обращено к окну, за окном – рисовое поле, раскуроченное ковровой бомбардировкой и фиолетовые горы в далеком далеке. Его глаза стекленеют.
– Дели, – говорит проводник, так тихо, что стук колес почти перекрывает голос.
Поезд стоит у полустанка, поэтому не совсем понятно, как это у него получается.
– Дели… Так сразу и не скажешь. До Дели, сударь, далеко. Ежели вам очень интересно, я спрошу у машиниста… А где ваш билет, уважаемый? – проводник выходит из ступора и строго глядит на тибетского ламу.
– Мой проводник, мой чела… – растерянно бормочет лама, быстро-быстро перебирая четки.
Подслеповато щуря глаза, он смотрит то на полковника Хопкинса, то на госпожу Блаватскую. Испуганными слезящимися глазами он цепляется за мое лицо. Это невыносимо. Я отворачиваюсь от старика и гляжу за окно.
– Мой чела сбежал от меня, и я не знаю, где он, – объясняет лама проводнику дребезжащим голосом. – Он украл билет и все мои деньги. Осталось только это, – и лама указывает на чашку для подаяний.
Лама поднимается. Он стар и от его шерстяного халата несет неприятным запахом чернобыльника горных ущелий.
– Уважаемый, вы свою плошку, забыли, – напоминает ламе полковник Хопкинс.
Удерживая старика под локоть, проводник-метис выводит его из купе. Госпожа Блаватская изучает свои безупречные ногти. Хопкинс прикрывается газетой. Это «The Times Of India» Я от скуки просматриваю передовицу по диагонали:
Принц Арджуна, инкогнито… цель этой поездки – объединить разобщённые и погрязшие в междоусобицах индийские княжества… планирует встретиться в неофициальной обстановке с доблестным Карна, принцем царства Куру… хорошо известна позиция Лондона… агенты британских спецслужб… попытки сорвать… провокации…
Скучно. Нахожу в кармане не очень чистый платок. Промокаю уголки глаз и вытираю пот со лба. В кармане лежит что-то еще. Какая-то штука. Я ощупываю ее через ткань брюк, рукой. Что-то небольшое, на ощупь, как полумесяц с ручкой. Я знаю, что это. Это такой маленький ножечек… Острый приступ мигрени. Так больно, что в глазах темнеет, и мир за окном начинает мерцать. В раме окна появляется тибетский лама в своей попоне и с четками и проводник-метис, ведущий его под ручку. Оставив ламу в поле, проводник прощается с ним коротким кивком головы и уходит. Лама растерянно оглядывается по сторонам. Тем временем, из заросшей кустами дренажной канавы вылезает облезлый пустынный лев. Лама поворачивается ко льву спиной и, скрестив на копчике руки, уходит вдаль по дороге. Над зазубренными вершинами фиолетовых гор стоит пыльное и желтое индийское небо. Зевнув, лев трусит следом. Поезд трогается, и оба персонажа пропадают за рамой окна.
– Сожрет старика, – говорит Блаватская.
– Сожрет, – соглашается полковник Хопкинс. – Непременно, сожрет.
– Какая страшная, жестокая страна, – говорит Блаватская. – Вы не находите?
– Индия обречена, – заверяет всех полковник Хопкинс. – Эти феодальные князьки терзают и рвут страну на части. Кругом голод и нищета. Но мы непременно вернемся сюда, господа, дабы принести свет просвещения и культуры на штыках наших солдат! Прозит!
Полковник поднимает свой стакан с виски. Его монокль, вставленный в глазницу, нестерпимо сверкает. И тогда, я к своему удивлению узнаю этого человека. Мне вспоминается один далекий летний вечер в Фирозупре…
Я сижу в кустах, я скрываюсь в сумраке. Из кустов я вижу веранду нашего дома. На веранде – гости – мужчины, кто во фраках, кто в форме колониальных войск и ослепительные женщины, похожие на диковинных птиц, в немыслимых платьях и шляпках, украшенных макетами автомобилей и боевых дредноутов. Блеск хрусталя, красноватые язычки пламени в стеклянных колбах ламп. Херес, виски, пальмовое вино. Высокие окна особняка, выходящие на веранду, распахнуты. В полумраке гостиной, среди бесцветных деталей интерьера мерцает айсберг рояля. Шум голосов, смех, дым дорогих сигар и кальяна. Я гляжу на это подвижное сверкающие чудо, на праздник мира взрослых из своего убежища. Наш домашний питон Мафасуил дремлет на длинной ветке старого баобаба, над моей головой.
– Мы – Империя, мы – британцы…
– Когда мы уйдем, Индия погрязнет в склоках. Эти макаки, здешние феодальные князьки тотчас перегрызутся друг с дружкой…
– Заполыхает война, будет глад и мор… Придет чума… Города опустеют…
– Позвольте заметить, господа, настанет форменный конец света, апокалипсис…
– Индия сгинет, распадется на части. Останется в легендах и мифах. Разделит судьбу Атлантиды…
– И вот тогда эти дикари приползут к нам на брюхе умоляя вернуться…
– Позвольте заметить, господа, конец света уже близок…
– Да, что вы господа, все о политике, да о политике. Дамы скучают…
– А давайте петь романсы Вертинского!
– А давайте! Только, сперва, исключительно ради тонуса, хороший глоток бренди.
– Прозит! – говорит полковник Хопкинс, поднимая широкий стакан.
Как и ныне полковник крепок и в меру упитан и так же пронзительно сверкает стеклышко монокля в глазу, только виски не припорошены еще сединой и вместо неброского и словно бы пыльного штатского костюма на нем в тот вечер сидит, как влитой, парадный мундир колониальных войск с аксельбантами и орденами. Гости поднимаются из-за стола. Звенят бокалы. Красноватый свет ламп дробится в хрустале. Над крышей особняка, в пыльном индийском небе вселенским костром догорает эпоха.
Моя мать проходит сквозь отворенные окна в гостиную, садится за рояль и наигрывает, напевает в полголоса романсы Вертинского. Смеркается. Возле ламп кружатся мотыльки и бьются о стекло. Кимбол О’ Хара, мой отец, без кителя и с банджо в руках, присаживается на ступеньки веранды. Печальные песенки Вертинского позабыты. У отца густой сочный голос, и он поет неприличные куплеты. Рядом с ним, обняв отца за плечо, сидит полковник Хопкинс. Похоже, они закадычные друзья. Гости уже изрядно напились, все хохочут и отплясывают джигу. За забором, потревоженный неурочным шумом, трубит соседский слон. Потом все идут на речку купаться, а мама остается дома, она неважно себя чувствует. Она бледна.
В тот вечер, сидя в кустах рододендрона и внимая звукам чужого веселья, я с отчетливой тоской понял, что мне не унаследовать царства, никогда не войти в этот сверкающий мир, не быть таким элегантным, ловким и веселым, как отец, и таких друзей, как полковник Хопкинс у меня тоже не будет. Когда гости ушли купаться, я вылез из кустов и вошел в дом. Там в гостиной, в кресле, подле рояля сидела моя мать, укрывшись от ночной прохлады вязаным пледом. Мать молча погладила меня по голове и поднялась, чтобы затворить окна. Она сделала только шаг, как ноги у нее подломились, и она, потеряв сознание, упала на пол. Той же ночью она умерла от холеры… Нет-нет, перебиваю я сам себя, такого не могло быть. Моя мать умерла от холеры в Фирозупре, это правда, я теперь отчетливо это припоминаю. Только она, должно быть, долго болела, и были тоскливые пепельные вечера, и нехорошая тишина в комнатах, и этот доктор со смешными, будто бы нарисованными усами, неслышно идущий по глянцевому коридору к светлому прямоугольнику отворенный двери. Все это было, только я этого не помню, а помню именно так. Тот золотой и лиловый вечер и пустота в доме и оглушительный треск цикад, и жирные ночные мотыльки вьющиеся вокруг ламп, и, как мать, придерживая шаль одной рукой, поднимается с кресла, делает шаг, и у нее подламываются ноги…
– Может, ты встречал моего отца? – спрашиваю я проводника-метиса. – Он тоже работал проводником на Синдо-Пенджабо-Делийской дороге!
Чтобы перекрыть стук колес мне приходится кричать. Проводник оглядывается на меня и пожимает плечами. Из папиросного окурка в его зубах вылетают алые искры. Тогда я присаживаюсь рядом на корточки. Снимаю с шеи медальон, и открываю его, щелкнув замочком.
– Вот портрет моего отца, – говорю я проводнику-метису. – Взгляни, пожалуйста, будь так добр!
Проводник берет у меня из руки медальон своей маленькой смуглой лапкой. В скудном свете керосиновой лампы, озаряющей пространство тамбура, он подносит медальон к самым глазам и сильно щурится.
– Хороший мальчуган, – замечает проводник.
– Это я, только маленький, – отвечаю смущенно. – А вот, на другом портрете, Кимбол О’ Хара – мой отец.
Медальон устроен, как ракушка мидии, стоит отщелкнуть замочек, и он открывается, являя миру два овальных портрета. На одном круглая и хмурая мордашка мальчугана лет шести, с чуть вьющимися темными волосами. На другом – худощавое, оскаленное в волчьей ухмылке лицо мужчины лет тридцати с хвостиком. Когда я гляжу на этот портрет, мне мерещатся искорки опасного веселья в глазах моего отца. Он чертовски хорош собой.
Проводник смотрит мельком на портрет Кима-старшего и возвращает мне медальон.
– Ну, да, – говорит он, – Конечно, я его знал. Сколько лет вместе оттрубили на Синдо-Пенджабо-Делийскую железной дороге. Мы были друзьями не-разлей-вода. Я тебе вот, что скажу, сынок. Твой отец мне жизнь спас. Как-то раз на перегоне, вышел я семафорный огонь поправить, гляжу, а на рельсах лежит здоровенный такой леопард. Он, этот леопард, значит, свою пасть раззявил, а я в нее заглянул и вижу, клыки там, внутри страшенные. Я тогда сызнова всю свою жизнь увидел, с первых незапамятных младенческих годков. Вспомнил, как на велике вдоль Ганга гонял, и как мы с пацанами нанюхались клея в школьном подвале, и ту толстую соседскую девку, сестру шерифа, которая вывешивала на задней дворе свое кружевное белье просушиться… Много чего я тогда вспомнил, и всё в одно мгновение пролетело, а леопард, тем временем, поближе подошел и мне на форменную куртку уже слюной капает, скотина! И тут твой папаша спрыгивает, значит, с подножки паровоза и, как размахнется своим банджо и приложит тому леопарду по затылку. Такой звон по околотку пошел! Бесстрашный был, сукин сын…
– Да, верно, мой отец играл на банджо.
Я вспоминаю банджо в руках у отца. Ким старший сидит на ступеньках крыльца, стопы его босых ног утопают в тонкой и розовой от вечернего солнца пыли. Вдали поломанный плетень и темнеющие кусты кукурузы за этим плетнем… Воспоминания валятся на меня как мелкий картофель из худого мешка.
– Так ты говоришь, вы были друзьями? – спрашиваю я проводника-метиса, борясь с головокружением.
– Нет, обознался, – отмахивается проводник. – В жизни его не видал.
Сидим, молчим. Метис тушит о ступеньку окурок.
– А что с ним стало, с вашим отцом? – спрашивает он, глядя в бескрайнюю индийскую ночь.
Я не отвечаю. Я вспоминаю наш скрипучий дом в Лахоре…
Я помню источенные долгоносиком дощатые стены, коричневый летний сумрак в пустых комнатах, старую ламповая радиолу, сломанное тростниковое кресло на крыльце, остановившееся время… Я помню сезон дождей, фиолетовые грозы, кромешную ночь среди дня, звонкую дождевую капель с худого потолка в подставленный жестяной таз. Я поднимаюсь с кровати, взвизгивают пружины, белая вспышка молнии раскалывает кромешное небо за отворенными ставнями. И в это ослепительное трескучее мгновение я вижу деревья с плоскими кронами, мокнущие на краю саванны и далекий и жуткий силуэт горы Кайлас… В лиловых дождевых сумерках я вхожу в комнату отца. Скудный свет позволяет мне видеть его фигуру на низкой кушетке у окна. Ким старший лежит поверх одеяла в длинных армейских кальсонах с завязками. У него на груди спит та туземная женщина. Я зову ее тетя Майя. Это ее дом. Мама умерла, и мы не живем теперь в Фирозупре. Мы живем в Лахоре. Ким старший не носит больше форму знаменщика ирландского полка. Полк вернулся на Родину без отца. Отец остался в Индии, он нашел работу. Теперь он носит форменную курточку и фуражку и работает проводником на Синдо-Пенджабо-Делийской железной дороге… Поломанный трезубец молнии за окном. Тени сгорают. В белой комнате, похожей в то короткое мгновение на больничную палату, на низкой кушетке лежат отец и туземная женщина. Лицо отца и его обнаженный торс кажутся масляными от пота. Длинные черные волосы женщины разметались у него на груди. На полу возле кушетки – банка с опиумной настойкой. Я стою у изножья и смотрю на отца и на эту женщину. В моей руке маленький ножичек. Лезвие ножичка изогнуто полумесяцем… Трезубец молнии меркнет. Тьма смыкается, словно сходится занавес. Раскат грома, от которого сотрясается наш ветхий дом. Тетя Майя стонет во сне и наваливается на отца. Скрипит кровать. Ревет за окном потревоженный непогодой соседский слон. Я опускаю ножичек в карман пижамы. Я отворачиваюсь от окна, отворачиваюсь от этой, пропавшей в дождевых сумерках, кровати. Я ухожу…
Вываливаюсь из небытия. Протираю глаза и гляжу за окно. Поезд стоит. За окном нет ничего кроме перрона и полуразвалившегося глинобитного здания с мутными окошками. Фасад здания украшают три вывески: «Кассы», «Элитный секонд-хенд» и «Обмен валюты». Вдоль перрона стоят волосатые пыльные пальмы. К одной из пальм привалился туземный полицейский с кривым мечом и пузом, как у беременной на девятом месяце. Он даже толще чем я. Вид полицейского вызывает у меня смутную тревогу.
Покуда я кемарил, затекла шея. Встаю и иду размяться. Спускаюсь по лесенке из вагона.
– Стоим три минуты, – предупреждает меня проводник-метис.
– А где это мы?
– Бахамша, сахиб.
Прохаживаюсь туда-сюда под маслянистым покрывалом зноя, по перрону. Угол привокзального здания кажется рыхлым, как ломоть сырого хлеба, а за этим углом что-то поблескивает в дымной индийской дали.
– «Зе Таймз Оф Индия»! «Хинди»! Свежая пресса! – горланит мальчишка-газетчик где-то возле паровоза. – Читайте свежую прессу! Кровавая баня в окрестностях Аллахабада!!! Резня на корпоративной вечеринке!!!
По перрону прогулочным шагом шествует госпожа Блаватская. В белом воздушном платье, в белой шляпке и с ажурным зонтиком такого же цвета. Эта изящная миниатюрная женщина, похожа на девочку-подростка, но отчего-то, кажется выше толпы, окруживших ее туземных женщин в пестрых сари. Когда я гляжу на нее, мое сердце пропускает удар и сладко ноет внизу живота. Отвожу взгляд и иду к паровозу. Мне нужно найти мальчишку с газетами.
– Это у тебя, что здесь, милочка? – спрашивает Блаватская, указывая костяным мундштуком, на корзинку в руках одной туземки, весьма дородной.
Сперва, она приценяется к пиву.
– Гривна, – отвечает весьма дородная дама в цветастом сари.
– А пирожки, вот эти, с капустой? – спрашивает Блаватская и слышит в ответ:
– Гривна.
– А раки вареные?
– Гривна.
Блаватская затягивается и выпускает табачный дым из тонких прозрачных ноздрей.
– Достигнув безразличия к объектам восприятия, ученик должен найти раджу чувств, Творца мысли, того, который пробуждает иллюзии, – заявляет Блаватская. – Ибо Ум есть великий убийца Реального. Ученик должен одолеть убийцу.
Но весьма дородную даму в цветастом сари так просто не одолеть.
– Гривна, – говорит она, подбоченясь.
Блаватская согласно кивает, понимая, что нашла достойную противницу.
– Прежде, чем душа увидит, должна быть достигнута гармония внутри, а телесные очи стать слепы для всякой иллюзии, – терпеливо вразумляет Блаватская. – Прежде чем душа услышит, образ должен стать равно глухим, как к рыкам, так и к шептаниям, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию золотого светляка.
С этим, кажется, не поспоришь, но дама в цветастом сари готова поспорить.
– Одна. Гривна, – цедит она сквозь зубы, упершись своими могучими коряжистыми ногами в пыльные и рассохшиеся доски перрона.
Госпожа Блаватская утомленно вздыхает.
– Эта земля, о, несведущий ученик, – предупреждает она, – лишь печальное преддверие, ведущее в сумерки, за которыми расстилается долина истинного света, того света, что неугасим никакими бурями, что горит без фитиля и масла.
Туземка обиженно поджимает губы и смотрит куда-то в сторону. Победа Блаватской близка… В конце концов она покупает двухлитровую баклажку пива, пирожки с капустой и картошкой, и возвращается к вагону. Возле вагона стоят проводник-метис и полковник Хопкинс.
– И куда, подевался этот мальчишка с газетами?! – негодует полковник, сканируя публику на перроне цепким взглядом. – Чертов бездельник! Спит, наверное, где-нибудь в тени баобаба!
– Ваша правда, сахиб, – соглашается проводник.
По правде, говоря, ему плевать.
– Не желаете, пива, полковник? – спрашивает, подходя госпожа Блаватская.
Приняв у Блаватской баклажку с пивом, полковник пьет из горлышка, запрокинув голову. Напившись, вытирает рот тыльной стороной ладони.
– Благодарю, – говорит он, возвращая Блаватской пиво. – Нервы ни к черту. Эти обезьяньи князьки надумали замириться. А если так пойдет – конец смуте и междоусобице. Индия восстанет из пепла, окрепнет и семимильными шагами направится к сверкающим высотам процветания. А на кой ляд нам сильная Индия? Прошу прощения, миледи, вырвалось… Будут переговоры. А вот и зачинщик этого безобразия. Обратите внимания, принц Арджуна, собственной персоной. С нами в вагоне едет, между прочим…
– Этот тот высокий юноша с дредами, в солнцезащитных очках? – спрашивает госпожа Блаватская. – Он похож на ямайского растамана.



