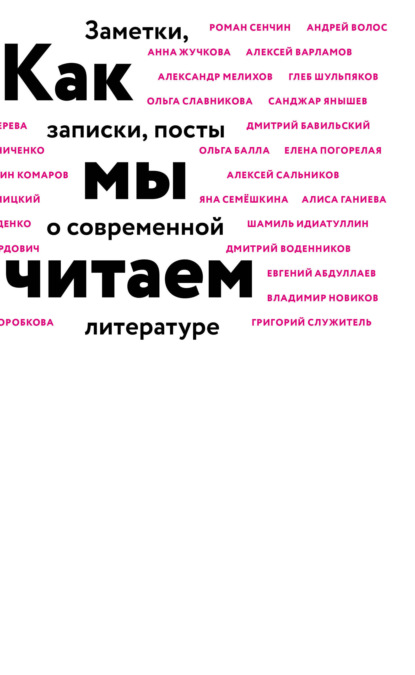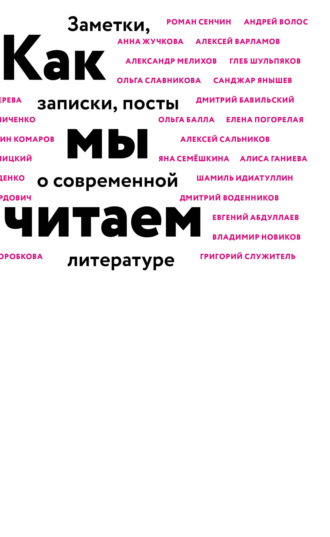
Полная версия
Как мы читаем. Заметки, записки, посты о современной литературе
Кстати, с пресловутым «качеством текста» дело сегодня обстоит неплохо. Я бы предложил считать его вполне удовлетворительным. За последние лет сорок – сорок пять оно выросло, что ощутимо для критиков-ветеранов с солидным стажем. Откроем любой нынешний толстый журнал и сравним его с журналом конца 70-х годов: уровень письма стал гораздо выше, вместо дежурной конъюнктуры – причастность к вечным культурным ценностям, вместо штампованного советского языка – изысканная полистилистика. А поэзия? Совсем недавно изучал список премии «Поэзия» в поисках «стихотворения года»: сто добротных произведений, претензий к «качеству текста» нет. И верлибры, и стихи метрически-рифмованные равно профессиональны. Наверное, есть еще не менее сотни таких же квалифицированных стихотворцев. Проблема только с читателем, который мог бы быть, но которого почему-то нет.
Современная русская литература угодила в информационную яму. Не буду повторять набивший оскомину тезис о кризисе критики – ведь уже и простая литературная журналистика сходит на нет. «Живу тускло, как в презервативе», – эти давние слова В. Б. Шкловского может сегодня повторить едва ли не каждый писатель. В современной прессе для упоминания о конкретном труженике слова имеется ровно три информационных повода: юбилей писателя, его кончина и получение им премии. Потому не стану критиковать и премиальный процесс: при всех неизбежных издержках он в этом ряду наиболее эффективен.
Думаю, спасение писателей, тонущих в информационном океане, – задача еще и эстетическая. Выплывут те, для кого коммуникативный вектор станет способом обновления, преодоления художественной инерции. Посмотрите на прорыв, осуществленный Дмитрием Даниловым: после довольно герметичной прозы («Горизонтальное положение», «Описание города») он выстрелил в десятку своими пьесами. «Человек из Подольска» оказался и точнее, и глубже индивидуалистического мифа о «свободной личности в несвободном обществе». «Собачий лес» Александра Гоноровского сравнивают со Стивеном Кингом: что ж, ориентация на короля масскульта не повредила прозаику-интеллектуалу. А ощутимый читательский успех «Дней Савелия» Григория Служителя наводит на следующую мысль: не лучше ли написать вещь «простую», которая потом обнаружит свою неоднозначность, чем пыжиться и корпеть над глобальным замыслом, который потом обернется претенциозной пустышкой?
Наш друг В. Каверин (прошу напечатать именно так: это его литературное имя, без длинного «Вениамина»), чьи «Два капитана» сегодня на глазах переходят из разряда «детской литературы» в категорию высокой прозы, в 1954 году выступил на Втором съезде писателей – да так круто, что его потом к такой трибуне уже не подпускали. Вся дерзость, впрочем, была в конкретности и коммуникативности. Ни слова о себе самом, все больше за других заступался, за Булгакова да Тынянова. А закончил эффектным монологом, где каждый абзац начинался словами: «Я вижу литературу…» О будущей литературе шла речь.
В каверинском духе хочется закончить так: я вижу литературу, основанную на таком общении автора с читателем, которое не могут заменить другие виды искусства и самые современные информационные технологии.
И она придет. По непреложным законам литературной эволюции.
Алексей Варламов
О каналье в барашковой шапке
В последнее время все чаще приходится слышать разговоры о том, как жили писатели в советские времена. Какие тогда были тиражи, гонорары, сколько платили за пьесы, за экранизации и сколько платят сейчас, и все сравнения не в пользу дня сегодняшнего. Психологически это очень понятно, и, хотя того периода как писатель я практически не застал, все же мой первый гонорар за трехстраничный рассказ в 1987 году в журнале «Октябрь» превышал в два раза зарплату в университете, а первая книжка вышла тиражом сразу 75 тысяч. Но дело не только в цифрах, а в общей атмосфере. Была литературная жизнь, борьба, интриги, был бес партийности. Это я не к тому, что хотел бы вернуться в прошлое, а к тому, что сегодняшний день кажется мне в отношении литературы по-своему очень правильным и при этом, как все правильное, несколько скучным.
В самом деле, кто был главным врагом писателя в советское время? Цензура. Ее в литературе больше нет. Не хочу ничего идеализировать, и понятно, что на телевидении, например, ситуация иная и туда пускают далеко не всех, но литература – вольноотпущенница, и, думаю, даже самый оппозиционный, самый непримиримый писатель вряд ли сможет привести сегодня пример, как ему не позволили издать книгу, продавать ее в магазине или встречаться с читателями. Да, это скорее говорит не об отдельной исключительной территории книжной свободы – хотя по факту это именно так! – а о том, что литература сегодня властям не столь интересна. С другой стороны, что в этом плохого? Формула Некрасова «поэтом можешь ты не быть…» ушла в историю. Никто никому ничего не должен. Хочешь быть либералом – будь, хочешь быть патриотом – имеешь полное право, нравится тебе быть аполитичным – никто слова не скажет. Отсюда и роль толстых журналов. Раньше было очень важно, где ты печатаешься и против кого дружишь. А сегодня правые и левые несут свои книги мимо «толстяков» прямехонько в «Редакцию Елены Шубиной», и она решает, кого издавать, а кого нет, исходя явно не из политической конъюнктуры.
Дух партийности, групповщины, союзничества из литературы ушел, выветрился, хотя особо заинтересованные товарищи и пытаются его вновь создать. Но тщетно… Из колхоза или совхоза, каким литература была в советское время, со всеми плюсами и минусами коллективизма, с его героями труда, передовиками производства, бригадами (деревенщики, горожане, военная проза, сорокалетние), литначальниками, отщепенцами, злостными прогульщиками, единоличниками, дезертирами и пр., изящная словесность превратилась в россыпь хуторов и латифундий. У одного хозяина землицы больше, у другого меньше, у одних чернозем, у других зола, песок или вечная мерзлота, кто-то ее прикупает здесь или за границей, а кто-то вынужден продавать за бесценок и наниматься на телефабрику или устраиваться на госслужбу, одни свой товар импортируют, а чью-то продукцию нигде не берут, некоторые книги экранизируются, инсценируются, а другие пылятся на складах, но в целом жаловаться больше не на кого.
Сумел убедить издателя вложиться в твою книгу, сумел завоевать читателя, заинтересовать режиссера, продюсера, литературного агента – молодец, нет – сам виноват. Это немножко жестоко, но справедливо. И разве не об этом мечтали поколения русских писателей? Как там было у Булгакова, в его святочном рассказе «Воспоминание», где Ленин выводит любезную поэту формулу:
– Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке.
Только вот собрались мы третьего дня с писателями, лауреатами российско-итальянской премии «Москва-Пенне», в каминном зале ресторана Дома литераторов, и потекли воспоминания про колысь. Как раньше в этот дом приходили одни только члены Союза, как обмывали свои книги, а в самом каминном зале находился большой партком, и тут вершились в прямом смысле этого слова писательские судьбы. Лет двадцать или даже десять тому назад ничего, кроме ненависти к этому парткому и радости от того, что его больше нет, у меня бы не было, а сейчас я сидел, слушал, как хотели, например, исключить из КПСС убежденного монархиста Солоухина, но за него вступилась «русская партия» в ЦК, и думал, блин, как это было круто. Монархист, член КПСС, русская партия, мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать, да плюньте вы ему в его соленые рыжики, лучше займемся икотой… Где все это?
Советская литература, равно как и литература Серебряного века, сумела создать миф. Твардовский, Кочетов, бодался теленок с дубом, соцреализм, шестидесятники, «Метрополь», самиздат, тамиздат… Эту историю интересно изучать (менее интересно в ней жить), о ее героях любопытно писать и читать книги, дискутировать, искать архивные тайны, читать разнообразные мемуары, письма, дневники, а вызовет ли такой же интерес наше время? Притом что есть хорошие писатели, есть замечательные романы, но вокруг них нет легенды, интриги. Ее пытаются иногда создать искусственно, но фальшь становится сразу видна, старые приемы приедаются, и когда какая-то свежая мифология вдруг прорывается, это и ошарашивает, и радует.
Так, в уходящем году после того, как премию «Ясная Поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе, ко мне после церемонии вручения подошла одна дама и сказала со значительным видом:
– Ну понятно. Оттуда спустили указание.
– Откуда? – не понял я.
– Из Администрации Президента.
Поскольку я сам член жюри этой премии и на моих глазах происходило обсуждение длинного, а потом короткого списка, я мог ее легко опровергнуть, но подумал – зачем? Пусть хоть так, это ж прикольно. Администрация Президента, которой заниматься, наверное, больше нечем, читает романы, интригует, лоббирует, уговаривает внука Михаила Александровича Шолохова вручить победителю премию. Миф, однако…
Шамиль Идиатуллин
Про здесь и сейчас и смысл литературы
Я удачливый писатель: у меня есть некоторая известность, пара премий, внимательные издатели и, главное, читатели, образующие, может, не самый многочисленный, но очень умный, умелый и качественный отряд.
Я счастливый читатель: мне доступен почти любой текст, в каком бы году и на каком бы языке он ни был издан.
Я благодарный представитель российской литературы, великой, могучей и не слишком удачливой. Для большинства книга превратилась из лучшего подарка, украшения интерьера и ежедневного утешителя в пылесборник и пережиток советского прошлого, которому место в лучшем случае на даче, а в основном – на подъездном подоконнике, авось кто подберет (к счастью, пока еще подбирают). Произвольно выбранный актер, рэпер или блогер популярней, влиятельней и богаче самого маститого писателя. Литературные страницы и рубрики истреблены как класс в большинстве традиционных СМИ и телеканалов.
Тираж в 2 тысячи экземпляров стал стандартным и зачастую не выкупается почти 200 миллионами, если считать с СНГ и диаспорой, потенциальных читателей. При этом, как правило, современная российская литература составляет малую долю рациона среднего отечественного читателя, а читателю зарубежному совсем незаметна.
Этот упадок можно списать на проблему одних только писателей и читателей, и тогда беспокоиться не о чем: первые – марш на завод, в мерчендайзеры или охранники, вторые – пусть читают, а лучше смотрят иностранное и играют в него – уже сейчас на десяток поколений хватит, и с каждым годом лес все гуще. Увы, списать не получится. Литература наряду с журналистикой и социологией остаются инструментами, с помощью которых общество осваивается и пытается выжить здесь и сейчас. Они ловят, ощупывают и, как могут, описывают пресловутый миг между прошлым и будущим, поставляя препарированный материал остальному инструментарию, от политики и экономики до науки и этики. Без журналистики общество не видит и не слышит происходящего, без социологии не понимает собственной реакции, без литературы не может прочувствовать происходящего и того, больно это, холодно или сладко. Литераторы работают частью мозга общества, не самой умной, продвинутой и точной, но ответственной за то, чтобы справляться с текущей реальностью. Литераторы отвечают за то, чтоб общество не рехнулось окончательно, а искало ответы на главные вопросы, подсунутые литературой.
Без тентаклей или вкусовых сосочков, в роли которых выступают литераторы, общество собирает лбом неизбежные грабли, смело погружается по локоть во все оголенные розетки и вгрызается в колбасы, которые и за двадцать лет до просрочки пробовать не стоило. И чужие сосочки, позаимствованные у пусть даже самых чутких соседей с изумительно тонким вкусом, помогут не сильно – розетки и колбасы у всех разные, на чем бы ни настаивал старик Фрейд.
Поэтому нужна литература. Поэтому нужны писатели как люди, которые помогают человечеству выжить и адаптироваться к каждому историческому этапу. Поэтому проблемы литературы, а тем более ее выпадание в малосущественный осадок, оказываются большой бедой всего общества. К счастью, не сразу. К сожалению, неизбежно.
И поэтому же смысл литературы – писать про современность и современников. Разнообразно. Меняя угол наблюдения, степень прищура, ракурсы, технику и жанры. И вот тут, в принципе, можно и нужно оглядываться на соседей. В последние полвека несущими колоннами, скажем так, премиального мейнстрима во всем мире служат исторический и остросоциальный романы, роман взросления и интеллектуальная фантастика, в такт которым разнообразно развивается нон-фикшн. У нас же грех (и поздно) жаловаться лишь на первую из составляющих. Хруст французской булки, проклятый Сталин, эхо Отечественной и подмороженная «оттепель» заняли едва ли не все пространство, не отъеденное бульварным чтивом. От него, от дамских романов, скверных детективов и низкосортной фантастики читатель давно устал – но к так называемой большой литературе массово так и не привалился. Не только потому, что цифровая эпоха предлагает массу более дружелюбных легкоусваиваемых развлечений, но и потому, на мой взгляд, что в высокой прозе читатель не находит себя. Он увлеченно читает интеллектуальную прозу, которая напряженно исследует тонкости адаптации личности и общества к новой эпохе и новому миру, отличные книги про растерянного обывателя в цифровом Вавилоне, про замотанного родителя хипстеров, раздавливаемого кредитами, семейным долгом и новой нравственностью, про переселенцев, беженцев и гастарбайтеров – в Британии, Германии, Норвегии, США, Канаде, да хоть Антарктиде, но не у нас, потому что наших обывателей и гастарбайтеров как бы нет. То есть они есть, конечно, – это выясняется, когда посвященная им заграничная книга переводится на русский или когда Netflix либо HBO вываливают очередной сериал по этой книге и эту книгу с сериалом можно растоптать как недобросовестные, порочащие, полные лжи и лажи.
С отечественной книгой обходятся так же. В лучшем случае читатели и критики из сочувствия к автору объясняют слабость книжки спецификой российской действительности, подобно вампиру не отражаемой стандартным литературным зеркалом и, стало быть, требующей иных отражателей, дополнительного времени для осмысления, а в идеале выращивания новых Толстых с Достоевскими, способных справиться с нонешней полыхающей злободневностью.
Это не только выученная литературная беспомощность и полная ерунда, не позволяющие вырваться из плена истории и бесконечного хождения по кругу. Это еще и профессиональное преступление: отдавать внукам или соседям на описание и осмысление собственную кровоточащую, пульсирующую, бьющую и такую интересную жизнь, в которую надо всматриваться, вгрызаться, втискивать пальцы и что получится.
Даже если в обществе существует тихое отрицание нашей реальности – типа «я не хочу быть участником всего этого», люди, которые заточены на то, чтобы изучать и отображать жизнь социума, не должны молчать. Они должны искать и подсказывать если не выходы, то хотя бы тупики. Иначе мы так и будем тетешкать себя мантрой «и так все все знают», а потом изумляться: ой, пацаны на улицу вышли, ой, чиновники, оказывается, все украли и уже нас кушают, ой, завод рванул, ой, нам на родном языке говорить запретили, ой, наши защитники выходят нас защищать не со щитами, а с дубинками, – и хорошо, если успеем изумиться-то.
Лично меня изумляет вновь проснувшееся стремление сделать из нас одинаковые винтики, которые бы говорили на одном языке, исповедовали одну веру, одинаково одевались, одинаково голосовали, причем не по существующему, а по искусственно верстаемому канону. Но приведение к одному знаменателю затирает яркие оттенки в социуме. Красное, зеленое, белое, черное становятся одинаково серым. И все книжки про них, от «Мы» и «1984» до «Пятидесяти оттенков серого», уже написаны. Да и помним мы, чем и как быстро такая серость кончается. Больше не хочется.
Россия – сумма разных культур, в этом ее сила и особенность. Сильная свободная страна достойна сильной свободной и разнообразной литературы, без которой ей труднее быть сильной и свободной.
Григорий Служитель
О вневременности литературы и редком ингредиенте в кухне современной прозы
Если литература чему-то и учит, то только одному: время иллюзорно. Описать неурожай, осаду города, ритуал; упорядочить свои или чужие мысли, чувства и доверить их бумаге (папирусу, глиняным дощечкам или бересте) – это одно из главных технических открытий эры человека разумного. Слово не столько информирует, сколько деформирует. И не читателя, а само время. Эта теория имеет простое и очевидное доказательство: за чтением интересной книги время летит гораздо быстрее. Все писатели (возьмем шире, художники) – современники. И в этом есть чудесный и непреложный закон искусства.
Во всяком случае, я представляю себе литературу не как уходящую в прошлое колею (вот тут у нас Сорокин и Пелевин, там неподалеку Набоков, там еле виден Диккенс и уже где-то совсем за горизонтом непонятный, окаменевший Боккаччо). Культура вообще анахронична. Любой автор находится на расстоянии, отделяющем глаза от страницы. Бумажной или электронной. В этом смысле граница между современной и, положим, античной литературой если не стерта, то проведена блеклым пунктиром. И на этой границе нет ни шлагбаумов, ни таможни, ни овчарок, ни пунктов досмотра.
Но все-таки плюрализм мнений и свобода слова имеют обратную сторону, кровавый, если угодно, подбой. Каждый, имеющий доступ к Интернету, глубоко убежден, что мир рухнет, если он не выразит своего мнения по какому-либо вопросу. Так вот, современный критик представляется мне этаким выжившим после кораблекрушения, который каждую корягу на горизонте принимает за спасительный корабль. Но мне кажется, что должно пройти какое-то время, чтобы книга отстоялась, чтобы стало понятно, что же она представляет из себя на самом деле. Короче, я плохо разбираюсь в современном литературном процессе, но некоторые тенденции актуальной русской прозы мне очевидны: остросоциальность, документальность и перефокусировка с недавнего прошлого на день нынешний и даже иногда грядущий (жанровую литературу: фэнтези, детективы и т. д. – я не имею в виду).
При этом писателей я разделяю на три рода войск: те, кто отображает действительность, искажает ее и преображает. В качестве аналогии с первыми могу привести такой пример. По Интернету гуляет ролик, в котором Джим Керри с феноменальной, прямо-таки дьявольской точностью копирует мимику и жесты Николсона в сцене из фильма «Сияние». В верхней части экрана – Керри, в нижней – Николсон. Возможно, те, кто не знаком с творчеством Кубрика, не сразу поймут, где оригинал, а где эрзац. Сделана пародия не просто мастерски, а пугающе достоверно. Высокочеткое копирование и есть первое и единственное достоинство этого ролика. То же я могу сказать и о литературе. Да, вне всяких сомнений, писателю не принадлежит ничего, даже язык придумал не он; процесс сложения слов, по сути своей, временное заимствование. Но в самом подражании жизни уже есть какое-то ложное самоуничижение. Это следование за несуществующим вожатым по чужой лыжне. Искажение – это месть миру. За что угодно: за детские обиды, за неврозы, за несложившиеся любови и т. д. Такие высказывания приносят боль читателю, но имеют (не всегда) терапевтическое воздействие на автора. Преображение – это благодарность миру. Лично для меня наиболее близкий подход.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Вопросов литературы». (Прим. ред.)
2
Электронная книга. (Прим. ред.)
3
Judith Butler. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. NY.: Routledge, 1990.
4
П. Басинский. Онегин – добрый мой приятель // Российская газета. 2019. 10 марта. № 52 (7810).
5
Здесь и далее цитаты представляют собой комментарии специалистов и исследователей, взятые автором для статьи. (Прим. ред.)
6
Чтение современного школьника: программное, свободное, проблемное. М.: Совпадение, 2016.