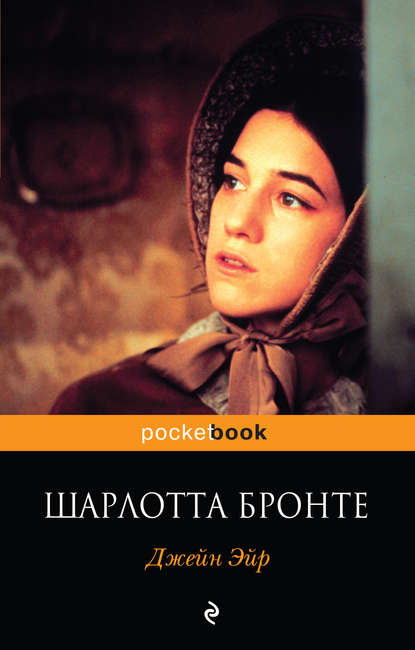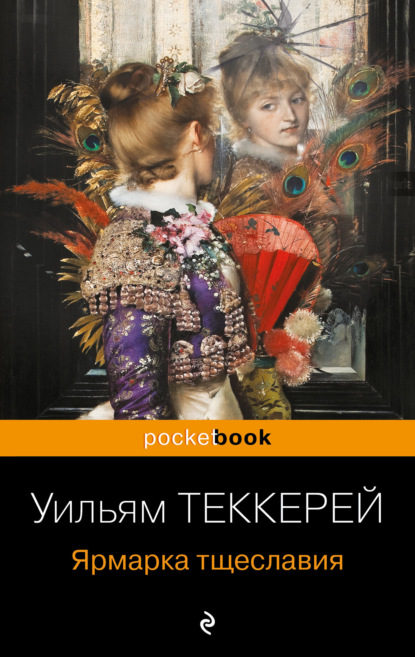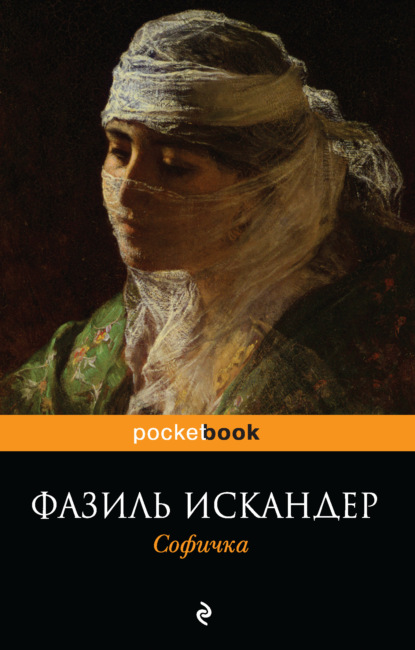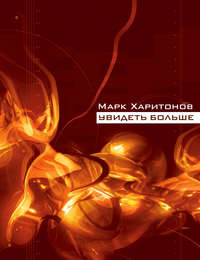Линии судьбы, или Сундучок Милашевича
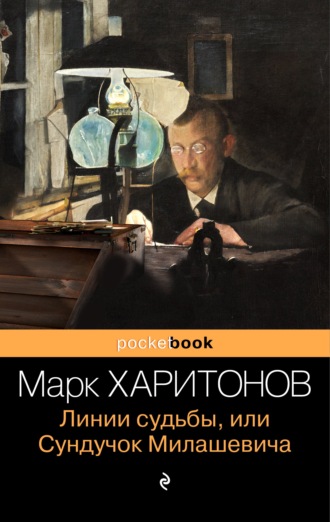
Полная версия
Линии судьбы, или Сундучок Милашевича
Жанр: современная русская литературатайны прошлогопроза жизнисвязь временфилософская прозавремя и судьбы
Язык: Русский
Год издания: 1992
Добавлена:
Серия «Pocket book. Эксмо»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу