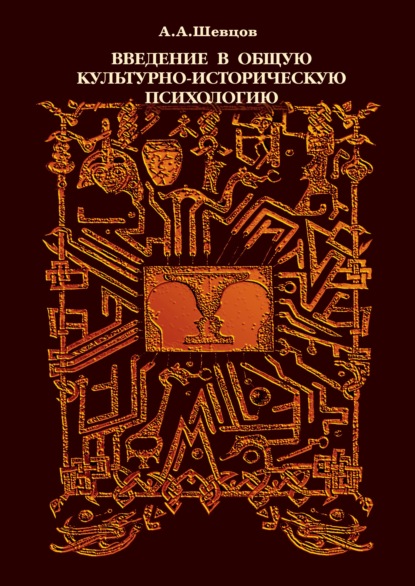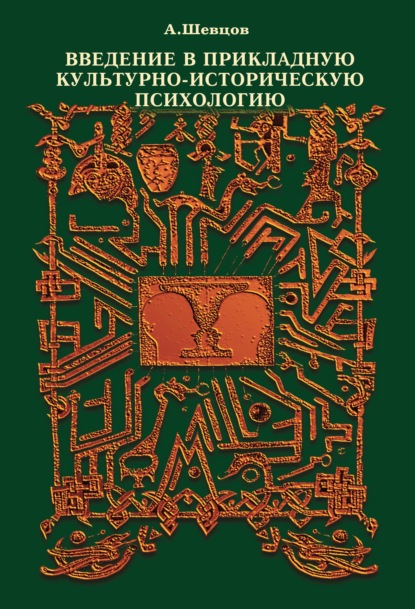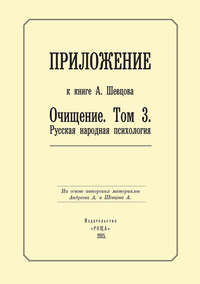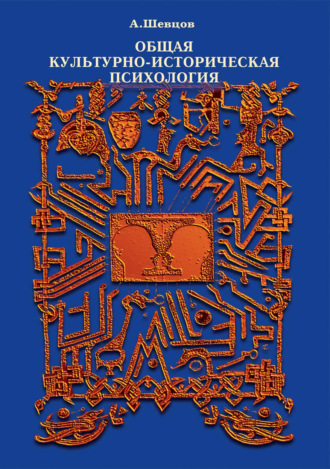 полная версия
полная версияОбщая культурно-историческая психология
Вот из-за подобных внутренних сложностей, хорошо показанных как внутренний мир русского интеллигента Достоевским, Кавелина трудно просто читать, а надо понимать, исходя из всего его творчества, да еще и с учетом исторической и культурной обстановки, на которую он откликался.
Тем не менее, попробуем разобраться в том, как он видел предмет психологии.
Кавелин начинает вторую главу «Задач» словами, которые позволили считать его представителем русского позитивизма: «Каждая положительная наука имеет свой, точно определенный круг исследования. Для психологии это предстоит еще сделать» (Там же, с. 11).
Если кто-то из современных ученых использует слова «положительная наука», то никому и в голову не придет считать его позитивистом, но в середине девятнадцатого века это было приговором. И никто не хотел вглядываться, действительно ли Кавелин проводит рассуждения в духе позитивной науки Конта. Все просто узнавали и вставляли в определенную рамку. Поэтому многие маститые историки философии считали Кавелина позитивистом или хотя бы «полупозитивистом», как это звучит у Зеньковского.
Один Эрнест Радлов рассмотрел, что действительно хотел сделать Кавелин: «Значение философских трудов Кавелина заключается в том, что они, во все время господства позитивизма, указали на истинную природу психических и этических явлений. Кавелин был один из первых в России, усмотревших слабость позитивизма и необходимость метафизического построения» (Радлов).
Для любого человека, более-менее знакомого с позитивизмом, ясно, что психолог не мог быть позитивистом никогда, просто потому, что отец позитивизма Конт отказал психологии в праве на существование. Сама попытка заниматься психологией есть бунт против позитивизма.
И Кавелин не был позитивистом, как не был и западником. Он лишь пытался понять всех и использовал те словечки, которые были модными, а значит, принимались его современниками. Однако мода лежит на поверхности, ее и видели. А в саму суть его размышлений старались не вникать.
Суть же заключалась в том, что позитивизм был для Кавелина лишь примером того, что действительное познание нуждается в инструментах, а наилучшими инструментами познания, которые смогло создать человечество, являются науки. Поэтому и к изучению или познанию себя, как души, надо подходить вооруженным, то есть создавая соответствующую задаче и предмету науку.
Вот это он и делает в своей работе.
Итак, каков же предмет психологии? «По названию, психология есть наука о душе, ее свойствах и проявлениях. Но душа тесно связана с телом, и разграничить факты психические от материальных чрезвычайно трудно. Оттого, в психологии смешиваются разнородные явления и она колеблется между философией и физиологией, примыкая то к той, то к другой, смотря по эпохе и господствующим мировоззрениям» (Кавелин, с. 11).
К философии психология примыкает во времена Сократа, поскольку самопознание есть первая прикладная философия. Но поскольку при этом познание себя не может идти без познания себя как души, то самопознание с неизбежностью оказывается и познанием души, то есть психологией.
При этом, как вы видите, Кавелин очень четко говорит о том, что предмет Науки о душе непроизвольно распадается на прямое познание души и на познание ее через ее проявления в различных средах. Проявляется душа через «факты психические», которые Кавелин будет описывать дальше, «факты материальные» и тело.
Далее Кавелин прямо говорит о сознании, к которому и относит «факты психические». Уже в ближайшие годы это направление будет признано как психология сознания, правда, оно будет считаться заимствованным с Запада, как первая школа Вундта.
«Общее сознание относит к числу физических, материальных предметов и явлений те, которые существуют или совершаются вне нас и подлежат внешним чувствам. Так как человек отличает себя от своего тела, то и оно, со всеми его явлениями, относится к тому же разряду внешних фактов;
наоборот, явления и предметы, которые недоступны внешним чувствам, но совершаются или существуют в нашей душе и представляются только нашему сознанию, приписываются душе и считаются внутренними, духовными.
Таковы наши мысли, убеждения, чувства, страсти, желания, намерения, цели, вообще все наши, доступные одному сознанию, внутренние состояния и движения. Они-то и должны быть исследованы в психологии» (Там же).
Определения сознания еще нет, пока это лишь описание того, что входит в предмет психологии. А значит, таким образом определяется сама душа. Скорей всего, для Кавелина сознание – это то, что сознает, то есть созерцает все эти составляющие души.
Однако посчитать, что Кавелин считает мысли, чувства и желания действительными частями души, было бы неверно. В конце этой главы он отчетливо заявит, что это лишь ее проявления, и он даже не берется пока говорить о самой душе:
«Постараемся путем осторожных наблюдений определить строение души, насколько оно выражается в фактах, а также условия и законы психической жизни, оставляя совершенно в стороне заносчивый вопрос о том, что такое душа и откуда она» (Там же, с. 40).
Эта осторожность, безусловно, наследие многовековых философских и схоластических споров о том, познаваем ли мир и можем ли мы быть уверены, что видим то, что видим. Иными словами, это наследие картезианства и берклианства, позволяющих оспорить любое утверждение или наблюдение под тем предлогом, что они «субъективны». Следы этого европейского философского наследия ощущаются у Кавелина уже в том, как он начинает описывать среду, в которой проявляет себя душа.
Если в предыдущих подходах к определению души и психологии Кавелин как бы отдал дань наследию веков семнадцатого и восемнадцатого, то описание среды – еще очень узнаваемое философствование девятнадцатого века, в котором вдруг вспыхивает его собственная психологическая мысль.
«Но разграничить внешние факты от внутренних так же трудно, как духовные от материальных.
Во-первых, бесчисленные наблюдения, известные всем и каждому, отчасти по собственному опыту, показывают, что нашим внешним чувствам представляются, порой очень отчетливо и живо, внешние, реальные предметы и явления, когда, однако, в действительности их налицо нет. Таковы видения и галлюцинации.
И наоборот: предметы нравственные, духовные, которые мы считаем доступными только для нашего сознания, как будто способны выступать наружу, переходить на внешние предметы, получать как бы внешнее существование. В таком виде они точно будто подлежат внешним чувствам.
Так, наружный вид человека, его движения, мимика, голос и манера говорить – все это обнаруживает его внутренние состояния. Точно так же они обнаруживаются в созданиях человека.
Не только письмена и условные знаки, не только произведения искусств, науки, но вообще все, что создает человек, начиная от обуви и приготовленной пищи и оканчивая железными дорогами и телеграфами, служит как бы материальным воплощением его чувств, мыслей и воли» (Там же, с. 11–12).
Что делает Кавелин в этом рассуждении? В сущности, он закладывает основы для научного изучения души через ее проявления. Основами этими оказываются предметы и явления культуры, то есть жизненной среды человека. Сейчас, через полтораста лет, когда гляжу на это непредвзятым взглядом, его рассуждения рождают у меня лишь одну мысль: почему бы нет? Надо лишь посмотреть, как он решит эту задачу.
Но современники не приняли этот подход к психологии, и не приняли жестко. Почему? На это не ответить без рассказа о том, что происходило в это время в Германии, которая была тогда безусловной столицей психологического мира.
Небольшое историческое отступление
Глава 1. Психология сознания
По большому счету, чтобы сделать действительно понятным то, в каких условиях творил Кавелин, надо бы дать полноценный очерк развития науки, начиная с Декарта, потому что вся предшествовавшая Кавелину психология выросла из картезианства. Она называлась психологией сознания, что вовсе не означает, что речь действительно велась о сознании, как его понимаю, к примеру, я.
Никто из философов и психологов поры, предшествовавшей Кавелину, не задавался целью дать определение этому понятию или даже описать полноценно сознание как явление. Тем не менее, русские мыслители однозначно понимали, что это – психология сознания. В сущности, Кавелин именно ее и развивает…
Я не буду делать подробный очерк предшествующей философии и психологии. Я это уже делал в предыдущих книгах, и потому вполне уверенно могу ограничиться несколькими свидетельствами, очерчивающими основные шаги в развитии психологии. Начну с выдержки из книги замечательного американского историка психологии Томаса Лихи. Он очень знаменательно начинает рассказ о современной научной психологии с Великой французской революции:
«К 1789 г., времени Французской революции, психология уже установилась как философская, но еще не научная дисциплина. Стало ясно, что психология, наука о человеческой природе, сыграет решающую роль во всех грядущих спорах о человеческой ценности и человеческой жизни.
Психология стала наукой в XIX веке.
<…>
Новая область психологии сформировалась в результате споров о ее определении и научной природе.
Что изучает психология? Картезианская парадигма давала один ответ: психология – это исследование сознания, и первые психологи определяли психологию как науку о сознании. Они указывали определенное содержание предмета, сознание, и уникальный метод, интроспекцию, для его изучения» (Лихи, с. 64).
Я не знаю, кто здесь врет – Лихи или его переводчики. Но Декарт определенно не говорит о сознании. Точнее, это слово встречается в его сочинениях, но говорит он об уме. И интроспекция, то есть самонаблюдение картезианства, это всегда разворачивание его «когито», то есть исходной установки «Я мыслю, значит, Я существую», в наблюдение за тем, КАК Я мыслю.
Иными словами, сознание Декарта – это мышление, если следовать за принятым в России переводом знаменитого изречения. Кстати, и знаменитый «поток сознания» Джемса им самим понимался как поток мысли. При этом, если мы задумаемся, а я предложил это сделать в выводах из «Введения в общую КИ-психологию», то увидим, что есть разница между мышлением и разумом. Самое малое, ее видит русский язык, называя нечто двумя разными именами. И Декарт вовсе не занят мышлением, он изучает разум. В каком-то смысле, он продолжает дело Аристотеля, создавшего науку Логоса, то есть разума. Это уже для его русских последователей стала допустимой такая небрежность: читать «разум», а переводить – «мышление».
Но это – внутренняя установка Декарта, как философа: понять, как работает разум. Естественно, как живой человек, созерцая то, что происходит в его уме, он иногда видит проявления разума, иногда – мышления. Не различает, но видит.
И при этом, все это, что видит Декарт и любой картезианец, происходит с помощью осознавания и в сознании. И в сознании, как в сознательном состоянии, то есть когда он пребывает в сознании. И в сознании, как некой среде, содержащей мысли, той самой, относительно которой возможно фрейдистское подсознательное, как хранилище переживаний, истерий и неврозов, то есть содержаний сознания.
Но этого картезианец не видит совсем, потому что понимает сознание лишь как фокус внимания или луч восприятия. То есть как лампочку, которая, будучи выключена, гасит свет разума. Что и отражает наш язык в выражении «потеря сознания».
Естественно, такое понимание сознания, как способности созерцать или сознавать, недостаточно для понимания и объяснения человека. Без допущения наличия в сознании каких-то содержаний невозможна ни культура, ни обычай, ни поведение.
«Тем не менее ни одна из наук о человеческой природе не могла избежать необходимости изучать то, что люди делают. В Германии Кант предложил создать науку о поведении под названием антропология, а в Британии Джон Стюарт Милль выдвинул идею сходной науки – этологии» (Там же).
Этология или этика – это науки о поведении, или, точнее, о правильном поведении. Очень многие ученые девятнадцатого века пишут свои этики, поскольку хотят переделать общество. А для этого надо иметь орудие воздействия на поведение людей. Образцом для их попыток, конечно же, послужила христианская нравственность, которая показывала пример удивительно стойкого и действенного воздействия на поведение людей на протяжении почти двух тысяч лет.
Не избежал этого и Кавелин. Поэтому его психологию стоит рассматривать вместе с написанными им «Задачами этики». Это лишь продолжение психологии, выведенной на уровень общества. Иными словами, Кавелин, как и революционные демократы или русские террористы середины девятнадцатого века, тоже хотел изменить русское общество, но путем развития нравственности, которая, как ему казалось, могла изменяться целенаправленными усилиями людей…
Это я оставлю вне моего исследования. Изменение общества мне не интересно.
Зато мне важны взаимоотношения психологии с наукой. Я хочу, чтобы, читая следующий отрывок из Лихи, вы попробовали почувствовать ту странность, которая в нем звучит. Примите это как КИ-психологический эксперимент, обучающий тому самому самонаблюдению, и постарайтесь заметить, что в вас отзовется. Отозваться же может, в сущности, лишь ощущение крошечного несоответствия того, что звучит, привычным образам, которыми вы знаете наш мир.
«Обсуждение вопросов, касающихся содержания предмета психологии, определило статус психологии как науки. Может ли психология, особенно определяемая как исследование сознания, вообще быть наукой? А если да, то какой наукой она должна быть и какие методы использовать? Эти вопросы обсуждались на протяжении XIX столетия.
Психология бросает вызов науке. Некоторые мыслители выражали серьезные опасения по поводу того, может ли вообще существовать наука о разуме и сознании. В Германии самые серьезные возражения против психологии как науки высказывались последователями Канта, немецкими идеалистами, и их аргументация задержала развитие психологии в университетах Германии. Различные возражения были выдвинуты и основателем позитивизма Огюстом Контом (1798–1857), оказавшим серьезное влияние на психологию в Англии и США.
Идеалисты сомневались в том, что можно количественно оценить сознательный опыт, эмпирическое Эго. Опыт можно описать качественно, но без количественных оценок более чем одного измерения не может быть психического эквивалента математических законов Ньютона и, следовательно, науки о разуме.
<…>
Конт предложил иерархию наук, из которой исключил психологию. Основной наукой была физика, на которой базировалась химия, служившая фундаментом биологии, лежавшей, в свою очередь, в основании новейшей и несомненной науки социологии.
Конт полагал, что душа (псюхе) не существует, поэтому не может быть и науки (логос) о ней. Он выражал надежду на то, что френология, биологическая наука о мозге, даст знания о человеческой природе, необходимые социологам» (Там же, с. 65).
Я думаю, вы почувствовали, что сейчас мы как-то совсем иначе понимаем, что такое наука. Понимание той поры было гораздо eже. И, по существу, Наукой было всего несколько вытекающих друг из друга наук во главе с физикой, которые сейчас называются Естествознанием.
Психология настолько не подходила этому союзу Богов, ведших битву за передел мира, что психологам целые века приходилось отмываться от жуткого позора: психология имела своим предметом то, что принадлежало Главному Врагу Науки – Религии – ДУШУ!
В силу этого пятна проказы на теле своей науки, психологи всеми учеными рассматривались как изгои и должны были очень стараться, чтобы свершилась эта великая и страшная алхимическая свадьба их науки с Правящим научным сообществом.
Глава 2
Психология девятнадцатого столетия
Исходно современная психология рождается не из желания познать душу или себя как душу, а из картезианского стремления создать новую логику, метод, которым можно было бы подчинить природу. В сущности, это способ стать божественным без богов. Воплощением этого и является вся современная наука.
Метод самообожествления оказался способом рассуждать, открывая истину. В силу этого, психология картезианства – это орудие наблюдения над тем, как рассуждаешь. А поскольку рассуждает наш рассудок, то она – способ познать не душу, а Рассудок. Называлась она по-русски психологией сознания, но это лишь неточный перевод того, что современные американцы переводят словом mind, то есть наука об уме.
Однако мечта века рационализма не состоялась, и девятнадцатый век меняет предмет психологии. Он отказывает «науке об уме» в праве считаться наукой, поскольку она слишком уж возвышает человека, сохраняя убежище для божества и души. Настоящая наука может быть только совершенно бездушна, как механика Ньютона.
Эта наука рождалась накануне девятнадцатого века в трудах французских философов, именовавших себя дилетантами, то есть любителями философствовать. Я уже много писал о значении Просвещения, «Энциклопедии» и Великой французской революции для рождения той бездушной силы, что именует себя Естественной наукой. Поэтому я воспользуюсь в этот раз мыслями другого историка психологии – Дэниела Робинсона из прекрасной работы «Интеллектуальная история психологии».
«Интеллектуальные основы Французской революции были заложены не Декартом, тем более – не Локком и Ньютоном. Скорее, они были созданы образованными мужчинами и женщинами, а не философами или учеными. Их сотворили драматурги, юристы и, как они себя называли, дилетанты. Самые известные из этого круга, конечно, Вольтер, Дидро, Руссо, Кондорсе и Даламбер. Гельвеций и барон Гольбах, хотя они и не входили в этот узкий круг, вдохновлялись многими из основных положений программы философов и служили их выразителями» (Робинсон, с. 367).
То, что было разработано этими «философами», до сих пор правит нашим миром, став самой сутью нашего «научного мировоззрения».
«Мы можем подытожить, что же они обнаруживали, оглядываясь назад. Во-первых, идею прогресса.
В работах Вольтера, а более всего в рационалистическом материализме Дидро и Кондорсе, мы неоднократно обнаруживаем представление о личностной и культурной эволюции. В работе “Сон Даламбера” Дидро говорит о видении целого как набора материальных частиц, о статуях, оживляемых путем материальных превращений, и последующей эволюции.
Кондорсе (1743–1794) в своей работе “Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума”, написанной в то время, когда ее автор скрывался от мстительных фанатиков революции – то есть от тех, чьи новые свободы Кондорсе старался охранять, – тоже переложил на бумагу идею, придавшую силу девятнадцатому столетию в целом: идею прогресса.
Вторая идея— идея природы.
Если Вольтера, Дидро, Даламбера, Кондорсе, Гольбаха, Руссо и остальных вообще можно считать пребывающими в согласии по какому-либо отдельному вопросу – а расхождения между членами этой группы были значительны, – то в этом вопросе все сходилось на философском натурализме.
Мир и все в нем – это материя. Мир следует понимать как материю в движении. Человеческий разум, посредством которого такое понимание становится возможным, следует нацеливать на природу и раскрытие законов природы……
В идею природы включалась идея естественного закона как применимого ко всем сферам реальности. Именно в тот же самый период Тюрго и физиократы (physis = природа; krateo = сила, верховная власть) ратовали за экономическую политику “свободного рынка”, посредством которой “закон” спроса и предложения устанавливает “естественную” цену товаров и труда рабочего.
Третья идея – идея персональной свободы. Самое значительное произведение Руссо начинается с преследующей его картины— изображения человека, рожденного свободным, но повсюду находящегося в цепях. Это— дух Просвещения, перенесенный англичанами в Америку и преобразованный ими в Права человека» (Там же, с. 369–370).
Именно эти «американские ценности», звучавшие во времена Французской революции как Свобода, Равенство, Братство, – насаждаются сейчас по всему миру под видом американской демократии. В действительности, они оказались властью отнюдь не народа, а плутократии, то есть воров и пройдох, и ведут к объединению всего мира под властью одной Империи, но духовно эта власть оказывается Естествознанием, то есть Безбожием. Что значит, культом тела, почему сейчас Демократия так очевидно проигрывает по всему миру Исламу…
Демократия – это всегда страх телесной боли, страх телесной смерти, забота о телесной сытости, одетости, внешности. Это служение Золотому тельцу… Соответственно, этому служат все современные Науки. И эту же задачу – как стать слугой Демократии – поставила себе в девятнадцатом веке и психология, избравшая войти в число Естественных наук, то есть наук не о духе, а о природе и теле…
Если вы почувствовали, что я плохо отношусь к демократии, то примите вот такое разъяснение: демократия, как вы видите, – это детище естественнонаучной революции. Она – прикладная психология того времени, когда изгнаны и наука о душе и сама душа. Это образ жизни тел и только тел! Тела – вот основной демос и предмет демократии. Трусливые и похотливые тела – это то, чему служат современные правительства и огромная технологическая индустрия…
Может ли психолог хорошо относиться к культу бездуховности и бездушности? Наверное, да, если он психолог только по записи в дипломе или трудовой книжке,…если он продался демократии и ее ценностям, которые, кстати, являются американскими и очень легко переводятся в денежный эквивалент!
Как вы понимаете, задача стать слугами демократии не снята психологами до сих пор. Тот же Робинсон свидетельствует с большим знанием дела:
«Современная психология в своих самых широких очертаниях остается деянием девятнадцатого столетия. Это ни в коей мере не означает, что она “старомодна” или отстает от времени. И все же надо отметить, что проблемы, поглощающие энергию современного психолога, либо были явно обозначены в девятнадцатом столетии, либо введены теми, в основе образования и культуры которых лежат уникальные взгляды девятнадцатого столетия» (Там же, с. 365).
Каким-то образом, психология застряла на той росстани. Подозреваю, в этом выразилось «сопротивление материала», точнее, самого ее предмета. Ведь все естественные науки как-то движутся в своем развитии и уходят вперед. А психология…
«В психологии ситуация действительно совершенно иная. Все ее теоретические проблемы – от изучения личности и развития ребенка до исследований нейрофизиологической основы эмоций или языка, до попыток понять детерминанты социальных и национальных движений— можно свести непосредственно к мыслям и экспериментам психологов и “натурфилософов” девятнадцатого столетия…
В современной же психологии сохранились не только проблемы девятнадцатого столетия, но и многие из разработанных в том столетии методов. Еще более важен тот факт, что современные взгляды во многом переданы потомству учеными того времени…
Сейчас нам следует лишь помнить о том, что в ходе изучения психологических достижений философов и психологов девятнадцатого столетия предмет нашего исследования лишь частично является историческим» (Робинсон, с. 366).
Это означает, что современный психолог не может действительно знать своей науки, если он не понимает того, что произошло с ней в девятнадцатом веке. А что, собственно говоря, произошло?
Мне кажется, что именно тогда психология прошла Росстань – перекресток, на котором встретилась с выбором пути и сделала его. Выбор же этот был – в сторону души или прочь от нее. Психология попыталась отречься от своего предмета ради жизненных выгод, ради сытости, демократии, хорошего места в сообществе победивших наук и богов…
Глава 3
Естественная психология
Как происходил в начале девятнадцатого века выбор и отречение психологии от души, лучше всего описал советский историк психологии Михаил Ярошевский. Строки эти, возможно, одни из самых проникновенных в истории нашей науки:
«В 40-х годах группа молодых учеников виталистски ориентированного И.Мюллера дала в противовес своему учителю торжественную клятву (подписав ее собственной кровью) объяснять все явления живой природы исключительно в категориях физики и химии.
Эти ученики (среди них были Гельмгольц и Дюбуа-Реймон – будущие корифеи физиологии XIX века) образовали “незримый колледж”, вошедший в историю под именем физико-химической школы. Они разрушили виталистские предубеждения и отказались от установки на исключительность психического в общей системе природы.
Вожди этой школы – Гельмгольц, Дюбуа-Реймон, Карл Людвиг, Брюкке и другие – были учителями и вдохновителями тех, кто в последующий период сделал психологию опытной наукой» (Ярошевский, История…, с.194).