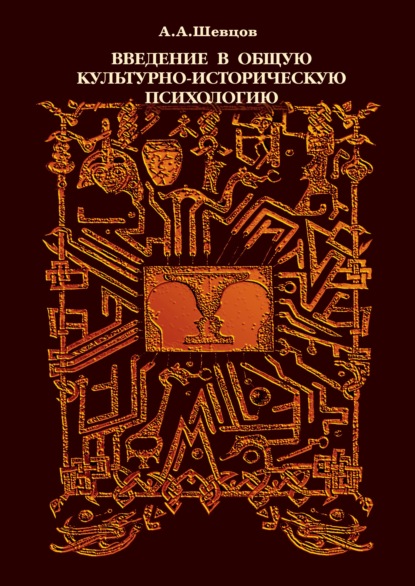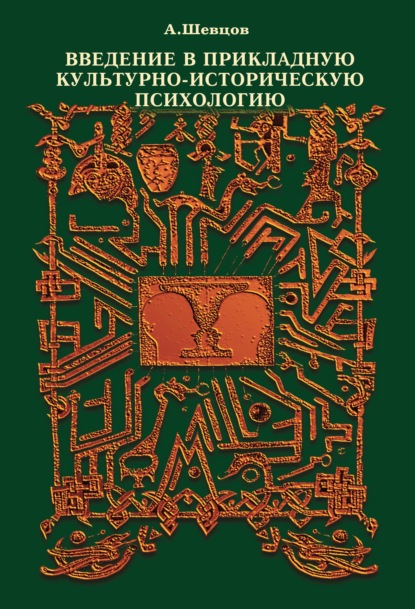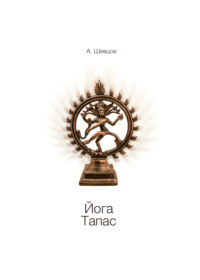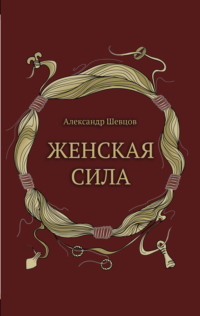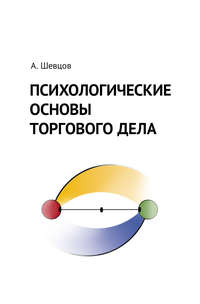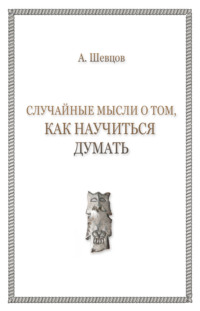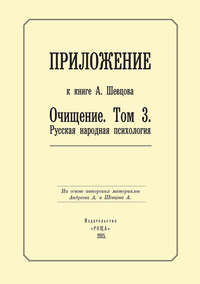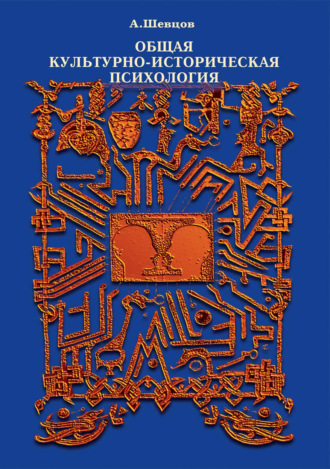 полная версия
полная версияОбщая культурно-историческая психология
Говоря, в сущности, о культуре, Вундт отказывается назвать ее предметом своей науки, обтекаемо говоря то об «объектах», то о «задачах». Если бы он шел за основателями психологии народов Лацарусом и Штейнталем, он вынужден был бы говорить как о предмете этой науки о народной душе. Но Вундт оспорил такую возможность еще в 1863 году, заявив, что это понятие условное, поскольку в действительности существует только индивидуальная душа. А ту, как вы помните, размолотил до таких осколков, что ее и вовсе не осталось.
Теперь он вынужден как-то оправдать свой психологический интерес к культуре. Общей души у народа, возможно, и нет, но понятие о народной душе не только есть, но она еще и как-то действует, оказывая воздействие на поведение людей. Её можно назвать духом народа, как и делали предшественники Вундта. Следуя за языковедом Германом Паулем, он пишет:
«Так как существуют лишь индивидуальные души, то, по мнению Пауля, возможна лишь индивидуальная психология. В связанном с человеческим обществом культурном развитии не могут освободиться никакие силы, не существовавшие уже раньше в отдельной душе, поэтому и в развитии культуры не может быть никаких законов, которые уже не действовали бы в отдельной душе» (Там же, с. 21).
Это ловушка. Теперь Вундту придется обосновывать предмет культурно- исторической психологии как проявления души отдельного человека. Кавелин, как вы помните, очень естественно показал, что душа проявляется через представления, которые воплощаются в вещи, общественные отношения и поведение. Вундт пытается уйти от используемых им ранее психических процессов к понятию «внутренних переживаний». Но делает он это как-то криво, явно пытаясь обойти болезненные для себя места:
«Однако и Пауль не может не признать вместе с Лацарусом и Штейнталем, что законы душевной жизни, в установке которых и заключается задача психологии как науки о законах, должны заимствоваться не из понятия души, привнесенного со стороны, но из самого внутреннего опыта» (Там же, с. 24).
Если вдуматься, то рассуждение это дикое: законы душевной жизни надо брать не из понятия души! Почему? А потому что оно, якобы, привнесено со стороны!..
Если не знать того, чем занимался в это время Вундт, то понять это невозможно. Ответ кроется в уже упомянутой мною работе 1905 года «Миф и религия». В ней он описывает множественные представления о душе, имеющиеся в различных культурах. И описывает именно как представления или суеверия. Иначе говоря, то, что люди называют душой – не есть душа, а есть лишь понятие о душе. А душа в действительности – это внутренний опыт, то есть то, во что, начиная с Декарта, может заглянуть исследователь с помощью самонаблюдения.
Простая мысль, что заглядывает он при этом в то место, в котором душа являет себя, творя образы, картезианским мыслителям не приходила. Упершись в явления, как баран в новые ворота, исследователи эти упрямо заявляли: вот это, что видят мои внутренние глаза, и есть душа, потому что я другой души не вижу! Что ж, можно и так. Но вот русские мазыки соотносили состояние барана с возрастом подростка от семи до четырнадцати лет, когда он упрям и еще далеко не умен, но уже научился биться за свои права и не поддаваться взрослым. Однако считается, что с возрастом можно стать и умнее……
Итак, предмет психологии по-прежнему внутренний опыт. Он и есть душа.
«И тогда истинным объектом психологии будут… данные состояния сознания. Душа при этом будет уже не сущностью, находящеюся в этих данных душевных переживаниях, но самым этим переживанием» (Там же).
Спасибо, утешил. Наверное, мы теперь можем больше не переживать из-за того, что нас лишили души. Кстати, а что переживает? Что изучать психологии, если самый источник переживаний устранен из изучения?
Вот так и определился предмет психологии народов:
«Если она и называет, согласно традиционному словоупотреблению, объект своего исследования душой, то под этим словом подразумевается лишь совокупность всех внутренних переживаний» (Там же, с. 24–25).
Определение души как «совокупности переживаний» – это уже не приравнивание ее к «психическим процессам» и даже не «внутренний опыт», хотя может быть понято и так. То, что Вундт постепенно отходил от своих ранних определений, видно и в «Очерках психологии» 1896 года, где он прямо заявляет, что недоволен своим прежним определением предмета психологии:
«Два определения понятия психология преобладают в истории этой науки. Согласно одному, психология есть наука о душе: психические процессы трактуются как явления, из рассмотрения которых можно делать выводы о сущности лежащей в их основе метафизической душевной субстанции.
Согласно другому, психология есть “наука внутреннего опыта”. Согласно этому определению, психические процессы принадлежат особого рода опыту, который отличается прежде всего тем, что его предметы даны “самонаблюдению” или, как называют это последнее, в противоположность восприятию через внешние чувства, “внутреннему” чувству.
Однако ни одно из этих определений не удовлетворяет современной научной точке зрения» (Вундт, Очерки, с. 3).
Вундт был великим – как великим ученым, так и великим шарлатаном, и с изящной легкостью выдавал свои поиски за точку зрения науки. Но бог с ним. Главное, что он, как кажется, начал сомневаться в том, что предметом психологии является опыт. Но это обман. Предметом ее остается для него все-таки опыт, только чуточку иной опыт. И звучит он, объясняя это, почти как Кавелин! Это место важно тем, что в нем Вундт действительно психологичен, что не так уж часто случается у психологов, поэтому я приведу это рассуждение целиком.
«Второе, эмпирическое определение, видящее в психологии “науку внутреннего опыта”, недостаточно потому, что оно может поддерживать то ошибочное мнение, будто бы этот внутренний опыт имеет дело с предметами, во всем отличными от предметов так называемого “внешнего опыта”.
Однако, с одной стороны, существуют действительно содержания опыта, которые, составляя предмет психологического исследования, не встречаются в то же время среди объектов и процессов того опыта, изучением которого занимается естествознание; таковы наши чувства, аффекты, волевые решения. Но, с другой стороны, нет ни одного явления природы, которое с несколько измененной точки зрения не могло бы быть предметом психологического исследования.
Камень, растение, тон, солнечный луч составляют, как явления природы, предмет минералогии, ботаники, физики и т. д. Но поскольку эти явления природы суть в то же время представления в нас, они кроме того служат предметом психологии, которая стремится дать отчет в способе возникновения этих представлений и выяснить отношения их к другим представлениям, а также к чувствам, движениям воли и другим процессам, которые не относятся нами к свойствам внешних предметов» (Вундт, Очерки, с. 3–4).
Вот теперь становится понятно, как стала возможна Вундтовская культурно-историческая психология. В сущности, он стоит прямо перед тем, чтобы повторить вслед за Кавелиным, что мы не знаем действительного мира иначе, как через свои впечатления. И значит, все науки, говорящие об изучении действительности, в действительности изучают лишь представления, которые оставляют вещи в сознании исследователя. Именно в сознании.
В 1911 году во «Введении в психологию» Вундт повторит мысли из «Очерков», заменяя «внутренний опыт» на сознание:
«На вопрос о задаче психологии примыкающие к эмпирическому направлению психологи обыкновенно отвечают: эта наука должна изучать состояния сознания, их связь и отношения…
Хотя это определение и кажется неопровержимым, однако оно до известной степени делает круг. Ибо, если спросить вслед за тем, что же такое сознание, состояния которого должна изучать психология, то ответ будет гласить: сознание представляет собой сумму сознаваемых нами состояний.
Однако это не препятствует нам считать вышеприведенное определение наиболее простым, а потому пока и наилучшим» (Вундт, Введение, с. 7).
Вундт был удивительно привержен одним и тем же ошибкам и до самозабвения любил наступать на одни и те же грабли. Даже сам видя, что с определением что-то не ладно, он десятилетиями повторяет: сознание – это то, из чего оно состоит, а состоит оно из сознаваемых состояний. А душа – это психические процессы!
Точно так же он верно из книги в книгу повторяет, что сознание – это сознавание, но при этом тут же говорит о содержаниях сознания. Вот и изучение нравов, обычаев и вообще культуры – это, по сути, изучение содержаний сознания.
Но, думаю, я достаточно подробно описал то, чтj Вундт представлял себе предметом физиологической психологии, и его мучения из-за того, как связать это с предметом психологии культурно-исторической. Я уже говорил в самом начале рассказа о нем, что в «Мифе и религии» он дойдет до того, что вынужден будет разделить понятие души на два понятия, и так почти примирит две психологии. Но чтобы подойти к этому, приведу его описание предмета второй психологии. Как вы помните, оно вытекает вот из этого определения души:
«Если она и называет, согласно традиционному словоупотреблению, объект своего исследования душой, то под этим словом подразумевается лишь совокупность всех внутренних переживаний» (Вундт, Проблемы, с. 24–25).
И далее объясняет:
«Многие из этих переживаний, несомненно, общи большому числу индивидуумов; мало того, для многих продуктов душевной жизни, например, языка, мифических представлений, эта общность является прямо-таки жизненным условием их существования.
Почему бы в таком случае не рассматривать с точки зрения актуального понятия о душе эти общие образования представлений, чувствований и стремлений как содержание души народа на том же основании, на котором мы рассматриваем наши собственные представления и душевные движения как содержание нашей индивидуальной души; и почему этой “душе народа” мы должны приписывать меньшую реальность, чем нашей собственной душе?» (Там же).
Предложение щедрое, но весьма сомнительное, если вспомнить, что Вундт не считал, что душа существует. Но это к слову.
А на деле далее он пишет как раз о языке и мифических представлениях. Поскольку мне недоступны его языковедческие работы, я вынужден буду сделать небольшое языковедческое отступление, а потом расскажу о том, как Вундт делал описание понятий о душе, живущих в мифах и культуре.
Языковедческое отступление
По своему первому образованию я немножко языковед – филолог, как это называлось. Вообще-то я заканчивал исторический факультет, но в начале семидесятых кто-то в министерстве высшего образования решил провести над историками эксперимент и совместил часть истфаков с филфаками. В итоге родились истфилы… Историю на них давали по привычке вполне профессионально, а вот филология до сих пор вызывает у меня чувство собственной неполноценности…
Поэтому единственное, что я определенно могу сказать про дело, которое мне предстоит в этом отступлении, что я знаю, как это все непросто. Языковедение умудрилось в двадцатом веке связать себя с кибернетикой и теорией коммуникации, что вылилось в программирование и большие деньги. В итоге, лингвисты стали почти такими же крутыми парнями, как и математики. Впрочем, если не забывать, что математика – это всего лишь язык, – то это чрезвычайно естественно.
Однако математика стала царицей наук давно, еще со времен Галилея и Декарта, и мы привычно не задумываемся, на чем она нас сломала. Кстати, сломала она на обмане: она присвоила себе счет. И мы теперь узнаем математику с первого взгляда по многочисленным вычислениям, наполняющим ее труды. Удивительная шутка, сыгранная над человечеством! Но счет не имеет никакого отношения к математике!
Счет возникает десятки тысяч лет назад, задолго до ее рождения. Простой человек, даже первобытный дикарь, точно так же использует счет для своих нужд, как использует его и математик. Только он делает это с помощью своих рук, ног и пальцев. Иногда палочек, на которых делает зарубки. А математика усложнила это искусство. Но, по сути, она начинается как раз за границами счета.
В математических текстах к математике относится все то, что остается, если исключить из них счет. А что остается?
Те слова, те предложения, которыми математики записывают свои мысли. Счет же нужен лишь затем, чтобы показать, что эти мысли верны, то есть соответствуют действительности. Счет – это лишь способ проверить верность рассуждений, а чаще – описаний искусственно придуманных математиками миров. Почему для проверки используется счет?
Вопрос чисто психологический. Потому что человек из опыта знает, что счет соответствует действительности этого мира. Для того, чтобы ей соответствовать, он выверялся миллионами человеческих особей на протяжении десятков тысяч лет. И выверялся самым простым образом, прямо ногами и руками, что и записывалось в сознание. Условно говоря, глядя на яблоко, висящее на ветке, человек говорил себе: до него пять шагов. И проделав пять шагов, протягивал руку, чтобы сорвать яблоко. И если яблоко оказывалось в руке, у него рождалось ощущение соответствия счета этому миру.
И так тысячелетия: если до яблока пять шагов, надо сделать пять шагов, и тогда яблоко будет твое. А если ты делаешь шесть или четыре, яблоко недоступно, потому что счет был неверен! Хочешь выжить в этом мире, приведи свой счет в соответствие с простейшими действиями и движениями, и мир станет понятней, а значит, выживать станет проще.
Вот так рождалось человеческое доверие счету. Причем самому простому и наглядному, почему и говорится в русской поговорке: знаю, как свои пять пальцев!
Эти самые пять или двадцать пальцев и были той точкой опоры, которая позволила математике перевернуть мир людей. Математикам казалось, что они сделали своими основаниями некие идеальные понятия о числах. В действительности, основанием математики стала психологическая уверенность. Та самая уверенность в том, что счет верен. Эта уверенность существует только на земле и только у людей. Это всего лишь соответствие телесного опыта ощущению сытости в желудке, которое появляется при совпадении некоторых движений с некоторыми знаковыми понятиями.
И никакой идеальности. Потому что идеальные числа вначале вообще не имели отношения к счету. Числа, соответствующие первому десятку или дюжине, еще во времена Пифагора означали имена Богов и соответствовали не счету, а устройству мира. А считали безымянно, просто глядя на то, что считают, и на пальцы, которые загибали или разгибали при этом. Счет не имел словесных знаков, он имел наглядные образы соответствий. В этих соответствиях и заключалось ощущение удовольствия от уверенного выживания в действительности земли.
Имена связываются с наглядными образами соответствий лишь исторически и так превращаются в идеальные числа. Идеальность же их – наследие божественности их носителей. Иными словами, математика, присвоив себе не только счет, но и имена Богов, тем самым присвоила и то почитание, которое жило в людях по отношению к Богам. Вот откуда ее первенствующее положение среди наук…
Однако математика не была наукой и не является ею сейчас. Она вовсе не поиск истины, она – способ улетать от истины в мечты об иных мирах.
Вот почему высшая математика вообще превратилась в тайноведение, в игры высокого посвящения, где жрецы давно разрушенных храмов упражняют свои умы в том, как будут прокладывать путь, которым человечество однажды вернется то ли на свою далекую Прародину, то ли к своим Родителям, которые зачем-то поселили нас на этой заброшенной планетке… Вероятно, поставив какую-то задачу, которую мы забыли.
Но однажды мы ее вспомним и вернемся домой. И тогда, когда придет время возвращения, нам очень понадобятся те, чьи умы не приземлены, не связаны только с действительностью этого мира, а могут свободно витать в мирах с иными законами…
Но это все тайны храмовых покоев. А снаружи сообщество математиков всегда пользовалось огромным почетом у простых смертных, как и полагается жрецам. А другие сообщества завидовали им и пытались занять подобное же положение в обществе.
Вот и языковеды, которые до двадцатого века были скромными тружениками науки, с начала двадцатого века начинают математизировать свою науку и к его середине вдруг захватывают очень почетное место среди прочих сообществ. Достигают они этого тем, что делают себя похожими на математику внешне, и совершенно непонятными простому человеку внутренне. Теперь они тоже могут сказать любому наглецу, пытающемуся рассуждать о языке: да ты даже не понимаешь того, что пишут об этом настоящие лингвисты!
Именно поэтому я и начинаю этот разговор с предчувствием, что обязательно не пойму чего-нибудь очень важного с точки зрения языковедов. Однако мне нужно лишь обрести самое общее представление о том, что такое язык как явление культуры. А вот это можно сделать и не посягая на тайную жизнь современной лингвистики. Как раз связь с культурой и не охраняется сообществом языковедов, потому что относится всего лишь к жизни, а не к тому миру, что они для себя так самозабвенно создавали.
Глава 1
Язык – мировидение. Гумбольдт
Этот раздел, в сущности, вспомогателен, и нужен лишь затем, чтобы понять Вундта. Поэтому я ограничусь в нем зарубежным языкознанием. Тем, что так или иначе отразилось в работах Вундта, или же тем, что определяет науку о языке после него.
С кого начинается языковедение? Когда читаешь Гумбольдта, то складывается ощущение, что до него изучали только то, как обучать иностранным языкам. Однако другой великий лингвист Фердинанд де Соссюр первым поминает Якоба Гримма, а Гумбольда не упоминает совсем, будто того и не было вовсе, или он подлежит забвению, поскольку делал что-то совсем неверное. Сам же Гримм с большим уважением относился к тому, как Гумбольдт предлагал делать языковедение.
В общем, получается, что начало языковедения – дело личного выбора, и я избираю начинать его с Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835). Тем более, что он первым начал увязывать язык с культурой и оказался предшественником одной из важнейших школ современного языкознания, так называемой «теории лингвистической относительности», иначе именуемой «гипотезой Сепира-Уорфа».
Как считается, сделал он это в работе, которой завершил свою жизнь – большом труде, с названием «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества». Однако это была не единственная работа, в которой Гумбольдт говорил о связи языка с культурой и, по существу, с психологией.
Еще в 1798 году он пишет Гете, что задумал новую науку – сравнительную антропологию. Издававший Гумбольдта в России Г.Рамишвили пересказывает то письмо:
«Сравнительная антропология направлена на изучение индивидуальных характеров. Однако это (в отличие от физиологической антропологии) “не погоня за многочисленными различиями”, а выявление отношения отдельных “своеобразий к общему идеалу человечества”. Отграничивая эту науку и от человековедения, изучающего человека вообще (или отдельных особо интересных индивидуумов), Гумбольдт в сферу своего исследования вводит “характеры человеческих сообществ”» (Рамишвили, От сравнительной, с. 309).
Последнее с неизбежностью привело Гумбольдта к задаче изучения и тех языков, которые объединяют людей в сообщества. Воплощая задуманное, он пишет многочисленные труды о языках самых разных народов, подчас совершенно экзотических и неведомых европейцам. Тем не менее, именно они позволяют ему понять то, что станет общим для всей современной этнологии:
«Разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» (Гумбольдт, Об изучении, с. 349).
Иными словами, языки различаются не звучанием и не грамматикой, а мировоззрением, которое в них отразилось. А это значит, что носители разных языков живут в разных мирах.
Казалось бы, странное утверждение, но если мы вспомним исходные положения Кавелина о том, что действительный мир и его вещи, в сущности, недоступны нам, поскольку мы живем в мире собственных представлений, отгороженные от вещей впечатлениями, и вместо познания мира лишь продлеваем в свое окружение мир своей души, то странность исчезает. Наши души приходят из неведомых миров, и пытаются сохранить свои воспоминания, воплощая их здесь в вещах и отношениях.
Изучать культуры, которым соответствуют языки, можно на предмет их покорения, хотя бы как рынки. А можно и для того, чтобы понять, какие миры доступны моей душе, когда она расстается с этим телом…
Чтобы дать представление о том языковедении, что пытался создать Вильгельм Гумбольдт, я просто последовательно пройдусь по тем его работам, что так или иначе связывали язык с культурой и духом. Моя задача – увидеть, как развивалась мысль о том, что душа проявляется в культуре через язык.
И первое же, что надо отметить, это свойственную немецким мыслителям приверженность к нравственному видению того, что мы сейчас бы назвали психологией людей. Вундт начинает всю свою Психологию народов именно как психологию нравственную, которая постепенно перерастает у него в психологию нравов. Очень возможно, что в этом сказалось влияние не только Канта, но и Гумбольдта, потому что он начинает с этой мысли свой «План сравнительной антропологии».
«Так же как в сравнительной анатомии свойства человеческого тела объясняются посредством изучения тел животных, можно в рамках сравнительной антропологии сопоставлять друг с другом и давать сравнительную оценку своеобразных черт морального характера различных человеческих типов» (Гумбольдт, План, с. 318).
Это, безусловно, психологическое видение предмета, которое приведет к тому, что к началу двадцатого века языковеды, вроде Соссюра, будут прямо говорить, что лингвистика – это частная дисциплина общественной психологии.
В сущности, и весь «План» свелся у Гумбольдта к созданию науки о характерах. Кстати, им были высказаны по этому поводу мысли, опережающие свое время. К примеру, та, что характеры вырастают «в результате постоянного воздействия мыслительной и чувственной деятельности» (Там же, с. 325), которая осуществляется в обществе.
Гумбольдт был по сути своей просветителем, рожденным Французской революцией. Именно он ввел в оборот понятие «образование». И здесь он постоянно говорит о том, как воспитывать людей, чтобы мир стал лучше…
Это я опущу. Зато приведу выдержку из заключительной главы, которая описывает характеры как предмет изучения, находящийся в определенной среде. Гумбольдт не называет эту среду культурой, однако почитайте:
«Первая отличительная черта, которую мы отмечаем в массе случаев и которая не может ускользнуть даже от самого беглого взгляда, – это различие в предметах занятий людей, в продуктах их труда, в способе удовлетворения их потребностей и в образе их жизни. С этими очевидными вещами прежде всего связано представление о своеобразии как отдельных индивидуумов, так и целых наций, из которых о многих только это и известно, то есть известны лишь их одежда, занятия, развлечения, образ жизни и т. п.
Второй класс различительных признаков, присущих людям, уже ближе затрагивает их личность, хотя еще и не характеризует непосредственно ее внутреннюю сущность. К нему можно причислить все внешние особенности телесного строения и поведения: фигуру, цвет лица и волос, физиономию, язык, походку и мимику вообще» (Там же, с. 335).
От этого Гумбольдт предполагал перейти к сущностным различиям людей, и сделай он это, родилась бы психология. Однако он пошел другим путем.
Как вы видели, в этой работе, язык занимает еще весьма незначительное, можно сказать, служебное место. Но это было написано в 1795 году.
В 1797 он пишет небольшую работку, называвшуюся «О духе, присущем человеческому роду». Именно в ней он полноценно вводит понятие «Образования» (немецкое Bildung или Formung). Сейчас мы воспринимаем это слово так, как приучила нас культура: как обретение каких-то знаний, которые делают тебя «образованным человеком». И не замечаем, что это нерусское выражение «образованный человек» означает «человек уважаемый», к тому же, знающий.
И уж совсем не видим того, что прослеживается в немецких словах, особенно в Formung. Получение образования – это способ получить образ, а точнее, определенную форму. Как штамповка под прессом. Это в точности соответствует тому, как культура культивирует из нас овощи строго определенного вида, имеющие образ, подходящий обществу. Конечно, Гумбольдт хотел, чтобы люди стали лучше, и чтобы образование давало возможность раскрыться человеческому Духу, делая людей великими… В общем, он искал средство, которое могло бы оказывать на людей «благотворное влияние». Но как легко благие намерения людей превращаются в свою противоположность!
Думаю, в этом достаточно прозрачно просматривается ненависть естественника к естественности, к природе и зудящая потребность вмешаться в ее дела и улучшить. Гумбольдт был великим во многих отношениях, в том числе и великим прогрессором.