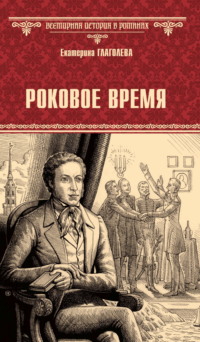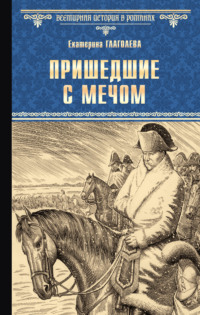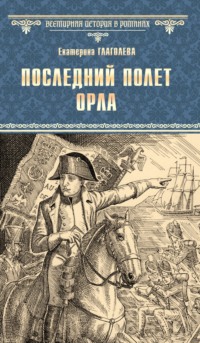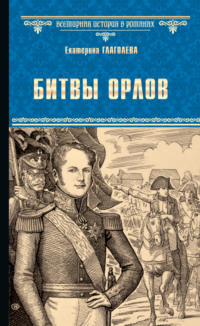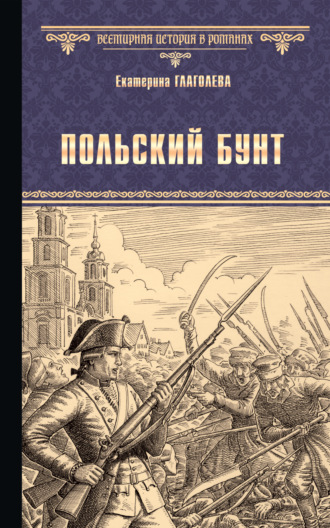
Полная версия
Польский бунт
Пронырливые жиды не раз извещали русских офицеров, что среди поляков готовится заговор. Молодой капитан Сергей Тучков, принявший командование артиллерией, как-то утром приметил, что на всех домах, где квартировали русские, были нарисованы красным карандашом буквы RZ – «резать». Арсеньев отмахнулся от него: «Разве вы не знаете поляков? Какой-нибудь пьяный повеса написал это ночью, чтобы нас обеспокоить. Не стыдно ли вам больше верить жидам, нежели мне, кому все обстоятельства известны лучше?» Однако приказал эти буквы стереть. Тучков же велел своим артиллеристам не ночевать поодиночке, а только группами по десять-двадцать человек, выставляя часовых, и фитили постоянно держать зажженными. Арсеньев сделал ему замечание по поводу ненужных расходов и пригрозил записать фитили на его счет, на что бдительный Тучков отвечал: «Это меня не разорит». Вот у кого надо было искать защиты и поддержки, а не у Арсеньева, полагавшего, что готовящаяся в княжестве революция – лишь козни горстки злопыхателей гетмана… Вчера утром, сидя под стражей в арсенале, Арсеньев написал Тучкову, бомбардировавшему Вильну с Погулянки, чтобы тот прекратил сопротивление: все высшие офицеры убиты или арестованы, он сам в плену и жизнь его в опасности. Тучков ответил: «Я арестовать себя не дам, и мятежники не иначе могут получить мою шпагу, как вместе с жизнью моей». Это его письмо подписали все офицеры и даже некоторые нижние чины и солдаты…
Коссаковского толкнули в спину, чтобы он поднялся на эшафот.
С каждой ступенькой петля приближалась. Не желая смотреть на нее, Коссаковский повернулся к народу. Головы не опускал, держал ее высоко. «Шельма! Предатель!» – кричали ему прошлой ночью, когда вели из дома на Немецкой улице в арсенал. Кто кричал? Те, кто присягали на верность новым властям – ему, Великому гетману княжества Литовского. Гудящая толпа перед ним перестала быть пестрой массой, обретая лица. Вон синие мундиры польских солдат и офицеров среди серых свиток с зелеными обшлагами и суконных кафтанов, белые султаны среди круглых шляп с бело-красными кокардами и шапок. «Виват свобода и равенство!» – кричали нынче ночью. Сейчас он скажет им, кто настоящие шельмы и изменники, – те, кто принесли сюда французскую заразу! Коссаковский шагнул вперед и приготовился говорить.
– Шоновне паньство! – звонким голосом выкрикнул Ясинский. – Сейчас здесь свершится то, что запрещается обсуждать! Понравится это кому из вас или нет, все обязаны молчать, а коли кто подаст свой голос, то будет повешен на этой же виселице!
Наступила звенящая тишина. Виленский адвокат Эльснер зачитал решение Уголовного суда от 24 апреля 1794 года о смертной казни для изменника отчизны. Под барабанную дробь Коссаковского подвели к виселице, и палач надел ему на шею петлю. Под ногами вдруг разверзлась пустота, небо опрокинулось, он падал, падал и никак не мог упасть, в ушах шумело и звонили колокола костела Святого Казимира…
* * *– Кроме Ошмянского повета и Полоцкого воеводства, нигде более явной и открытой угрозы в сем деле нет, хотя все головы для оного подготовлены. Написал? Сим довожу до вашего сведения, что в местечке Ореховно, в шести верстах от Полоцка, кое принадлежит помещице Забелло, еще в конце минувшего года были заготовлены три сотни пик, о чем донес эконом оной помещицы, шляхтич Дежка. Оный же Дежка доносит, что после виленских событий кузнец Филипп со своим братом новых пик понаделали, прячут же их частью в местной униатской церкви, частью у поселян. Под Полоцком же пан Буйницкий с полоцким воеводой Жабой… дал же Бог фамилию… это не пиши… заготовляет оружие и собирает верных людей…
Откинувшись на спинку кресла, Тимофей Иванович Тутолмин постукивал пальцами по полированной крышке письменного стола (изящная вещица, с потайными ящичками, инкрустацией, на позолоченных львиных лапах – за таким столом только любовные записочки сочинять, а не доносы разбирать) и разглядывал расписной потолок. Два пухлых ангелочка держали зеркало перед дебелой Венерой. Когда-то здесь, в Несвижском замке, приятно проводил время с такими Венерами пане коханку – Кароль Радзивилл. У него-то не было таких забот, как у генерал-губернатора Минского, Изяславского и Браславского.
Секретарь за конторкой легонько кашлянул.
– Далее пиши. Доносят мне также, что близ Воложина собралось мещан числом около двух тысяч, с некоторым количеством жолнеров, кои ожидают прибытия туда литовского войска. В местечке Новая Мышь Новогрудского воеводства, кое принадлежало бунтовщику Неселовскому, замечено великое множество шляхты и с ними вооруженных селян.
Всё ли писать или не всё? Начнешь всё перечислять – князь Николай Васильевич и осерчать может, скажет: алармист. Утаишь что-нибудь, а после какая-нибудь оказия случится, опять же ты и будешь виноват: почему вовремя не донес. Ладно. Трусом его, слава Богу, никто назвать не сможет: послужил матушке-государыне, не щадя живота своего, ни пулям, ни ядрам не кланялся. А береженого Бог бережет.
– Закончи там, как обычно, – велел Тутолмин секретарю. – При сём прилагаю… Честь имею быть верный слуга ваш и Ее Величества… и прочая… Готово, что ли? Дай взглянуть.
Секретарь быстро присыпал письмо песком, стряхнул, подошел и подал Тутолмину. Тот пробежал письмо глазами, кивнул и поставил свою подпись.
– Запечатать и сим же часом отправить с курьером к его превосходительству генералу Репнину, в собственные руки! – распорядился он. – И зови сюда полячика этого. Посмотрим, что за птица.
Секретарь вышел, закрыв за собой белую дверь с позолоченным узором, а когда вернулся, следом за ним адъютант ввел молодого человека лет тридцати, в длиннополом сюртуке из зеленого сукна поверх белого жилета, в такого же цвета штанах до колен, темных гетрах и башмаках; волосы коротко острижены а-ля Тит и зачесаны на лоб и на виски. Ну-ну.
– Кто таков? – спросил его Тутолмин. – Куда и по какому делу направляетесь?
– Пшепрашам, ваша эксцеленцьо, не розумем. Не мувим по-росийску.
– Парле-ву франсэ?
– Трэ маль[12].
Тутолмин встал, вышел из-за стола, заложил руки за спину и покачивался с пятки на носок, сжав свои тонкие губы и выпятив вперед подбородок. Волоса, вишь, на французский манер убраны, и сюртук от французского портного. И в Париже наверняка живал – папашины денежки в карты просаживал да на мамзелей спускал. А по-французски, вишь, не разумеет. Либо ветрогон, либо прикидывается простаком. Ладно.
– Покличь кого из офицеров, кто по-польски понимает, – сказал адъютанту.
Некоторое время ждали молча. Тутолмин снова сел за стол, а поляку сесть не предложил. Адъютант привел молодого поручика. Приступили к допросу.
– Спроси его, кто таков, каких родителей, откуда родом, в каком звании состоит.
Поручик перевел вопросы, и поляк затараторил, словно отвечал вытверженный урок. У поручика от волнения лицо пошло пятнами, когда он начал пересказывать то, что смог понять и запомнить:
– Он граф Кароль Моравский, сын Игнация Моравского и племянник князя Радзивилла. Обучался в Вене наукам, а также тактике и инженерному делу. В прошлую польскую кампанию служил во втором литовском полку, дослужился до полковника и получил орден из рук его величества, короля Польского. По окончании кампании вышел в отставку и поселился в своем имении в Польской Литве.
Тутолмин взял со стола несколько запечатанных писем и показал поляку.
– Пусть расскажет, что за бумаги вез, кому и от кого.
Поляк слова заговорил, увлекаясь своей речью и взмахивая руками; переводчик с испугом посмотрел на генерала. Тот остановил краснобая, выставив вперед раскрытую ладонь.
– Говори толком. Чьи письма? К кому?
Теперь поляк говорил, оглядываясь на переводчика и делая паузы, чтобы тот мог передать его слова. Но словно испытывал терпение Тутолмина: зашел издалека и долго не мог подобраться к сути.
– Станислав Солтан, бывший надворный маршалок литовский, приходится ему свояком… Он был арестован по приказу барона Игельстрёма и содержался в своей деревне как пленный… Он, граф Моравский, выехал для своих контрактов в Новогрудок, там навестил Солтана, а два дня спустя его разбудил эконом Солтана… Эконом рассказал, что эскадрон русских войск и казаки окружили дом, изломали двери и забрали Солтана вместе с бумагами. Жену же его, урожденную княжну Радзивилл, с испуга разбил паралич, одна дочь его получила конвульсии, а другая горячку… Граф тогда решил ехать в Краков к брату Солтана, Вейсенгофу… Жене же своей он сказал, что хочет ехать к дяде своему, Залескому, в Замостье… Оттуда поехал он к Вейсенгофу, а тот, узнав, что брат его взят русскими, пришел в исступление и, посадив графа в карету, повез его в лагерь Костюшки… Позже Вейсенгоф водил его по Кракову, позволяя обозреть пленных и пушки, взятые у русских. Там же они вместе ходили к Игнацию Потоцкому, который сказал графу, что они ожидают со дня на день прибытия тридцати тысяч австрийских войск и пятнадцати тысяч саксонских, потому как император заключил с Францией мир и хочет сделать своего брата польским королем… Костюшко же, в память покойного дяди его, князя Радзивилла, склонял графа к принятию службы, вручил ему открытое повеление всем генералам, офицерам и солдатам польским и литовским с ним соединиться… Еще он дал ему письма к Грабовскому и Корнатовскому и письмо к князю Сапеге. С ними граф выехал из Кракова, но в четырнадцати милях от него встретился с австрийскими войсками… В трактире один офицер, родом из Галиции, сказал ему, что австрийцы идут не на помощь Польше, а для раздела ее. Встревоженный этим, граф поехал к дяде своему, Залескому, и тот молил его со слезами не присоединяться к Костюшке, а поскорее начать процесс в рассуждении деревень, какие он должен был получить в наследство от князя Радзивилла, имение которого находится теперь в России. Деревни же Залеского теперь принадлежат Австрии… Дядя дал ему наставление сдаться в полон первому же российскому генералу или полковнику. В Бресте его остановил караул и отвел к полковнику Чесменскому, которому граф рассказал всё, что с ним было, и еще донес о намерении напасть на князя Лобанова… о чем он узнал от господина Гроховского, которому передал письмо в Красноставе. Чесменский позволил ему отписать своей жене и направил сюда.
Тутолмин пристально посмотрел на поляка. Малый привирает, выгораживая себя. Что в его россказнях правда, а что выдумки? Солтана минский губернатор Неплюев еще до виленских событий выслал в Смоленск по его же, Тутолмина, приказу. Да и про Моравского он что-то слыхал… Какой-то он выкинул фортель в Новогрудке… Ладно, пусть с ними со всеми Григорий Михайлович Осипов разбирается в Следственной комиссии, ему и карты в руки.
– Этого молодчика покормить и сим же часом отправить в Смоленск, да под крепким караулом, глаз чтоб с него не спускали! – приказал адъютанту. – А ты, братец, – обратился он к поручику, – вот эти бумаги мне переведи.
Моравский запротестовал, снова начал махать руками, что-то выкрикивал про свою жену… «Понимает, однако, по-русски-то», – отметил про себя Тутолмин. Графа увели.
Перевод был готов на следующий день. Из писем становилось ясно, что Костюшко назначил Моравского главнокомандующим повстанческими силами в Литве, присвоив ему чин генерал-майора (во как! В одном чине, значит, с ним ходим!) и приказывал объединяться с ним и повиноваться ему. «Те же, кто первыми выступят с корпусами для вступления в наш священный союз, примут в награду командование оными корпусами». Так-так. Некому, значит, командовать-то. Нет офицеров знающих, опытных, закаленных в боях, горлопанство одно. Генерал артиллерии Казимир Нестор Сапега, посол от Литвы на Четырехлетнем сейме, что Конституцию принял, видно, сам отказался от должности главнокомандующего. На безрыбье и Моравский генерал… «Как вооружить и обучить селян, о том генерал Моравский даст вам полную информацию…» В недавнюю Шведскую войну Тутолмин сам собирал ополчение для укрепления галерного флота, знает, что это такое. Чем вооружить? Косами, насаженными на древки, точно пики? Может, в паре стычек с мелкими отрядами такая «армия» ещё и победит, но против артиллерии и регулярных войск не выстоит. Обучить… За неделю сего не сделать. Солдат, ежели он хорошо обучен, не думает, как мужик. В бою он не должен щадить ни врага, ни себя, помышлять только о победе, а у мужика все мысли о деревне, о семье, о том, кто урожай соберет, кто его детей накормит. Побегут мужички, ох побегут… Что еще он там пишет? «Никогда полякам оружие неприятелей их страшно не было бы, если бы сами, между собою быв согласны, ведали свою силу и знали, как оною действовать… Во многократных случаях, когда поляк противу тиранства брался за оружие, смелость поляков всегда оканчивалась тем, что побежденный им неприятель возвращался новым победителем, налагая иго на его плечи. Отколь же происходит в Речи Посполитой сей переворот, если не от того, что хитрость московских интриг, быв сильнее оружия, погубляла завсегда поляков их же единоземцами…» И сего за месяц не исправишь. «Нынешнее народное восстание желает возвратить Польше вольность, целость и независимость, предоставляя народу учреждать, под каким он соизволит быть правлением». Ишь ты. «Свободные жители, за собственное щастие сражаясь, никак не могут сомневаться в победе». Ну-ну.
Кто они – свободные-то жители? Всех свободнее голь перекатная, у которой нет ничего. Но у нее, как правило, и совести нет. А так каждый боится что-то потерять, а где есть страх, там свободы не бывает. С другой стороны, драться насмерть можно лишь за то, что имеешь и чего утратить не хочешь или за то, что мнишь получить. А бывает и так, что обрести нечто можно, лишь отняв его у другого. Конституцию в Варшаве приняли, отняли у магнатов право вето – те в крик. Русские войска в Польшу привели и у конституционалистов, что пеклись о равенстве между шляхтой и мещанами, отняли имения. Теперь вот беспоместные взяли верх, народ бунтуют, грозятся жизнь отнимать. А что сулят взамен?.. Через два дня после восстания в Варшаве староста деревни Раковцы под Поставами, в Витебской губернии, шляхтич Городенский, собрал мирской сход, встал перед ним на колени, прилюдно присягнул на верность Костюшке, а после принуждал всех прочих тоже присягать, грозя виселицей и приставляя к груди мужиков пистолет. А Костюшко тут пишет: «Скажем, что народ теперь состоит под опекою национального правления, что угнетенный человек имеет защиту в порядковой комиссии своего воеводства, что притесняющий защитников Отечества яко неприятель и изменник Отечества казнен будет»! Небось Городенский бы своим мужичкам такого письма читать не стал бы! Ох, дождётесь вы у себя пугачевщины… Сам-то Тутолмин повидал всякого, когда служил в Чугуевском полку, в корпусе генерала Голицына, – и усадьбы разграбленные да спаленные, и помещиков, болтающихся в петле, и поруганных жен и дочерей помещичьих… Матушка-императрица повелевает сердца польских и литовских мужиков уловлять, дабы привлечь их на свою сторону. Мужику нужна земля да лошадь, да корова-кормилица, а панская свобода ему всегда боком выходила. Ярмо ему ослабить – он сам сих борцов за свободу на вилы подымет. Некоторые уж за межу перебегают: русские-то помещики в Смоленской губернии часто оброком довольствуются, на барщину не гоняют, а австрийский император помещикам в Галиции холопов произвольно наказывать и казнить не велит…
Запечатав все переводы в один пакет, Тутолмин приказал доставить его с нарочным в Санкт-Петербург.
* * *– Отечество? Что такое отечество?
Принц Нассау-Зиген поставил на стол пустой кубок и медленно вращал его между пальцами. В последнее время он стал замечать за собой, что после обеда и двух-трех бокалов вина его тянет пофилософствовать.
Корчма была набита галдящими прусскими офицерами; разговор между принцем и Оде-де-Сионом всё равно никто бы не подслушал, да и говорили они по-французски. Нассау нравился этот савояр: умный, многое повидал, схватывает на лету, приметлив, но не болтлив.
Разбитый поляками отряд русских во главе с Игельстрёмом явился в Повонзки, в лагерь прусского короля, две недели назад – 19 апреля. Из более чем четырехсот человек, защищавших посольство на Медовой, пробиться сумели двести пятьдесят, и то лишь благодаря четырем полковым пушкам: двумя расчищали себе дорогу, двумя прикрывали арьергард. Николай Зубов на следующий же день выехал в Петербург, и Нассау-Зиген тайком передал с ним шифрованное донесение для императрицы, которая поручила ему присматривать за Фридрихом-Вильгельмом, бесталанным сыном своего великого отца: уж больно ненадежен союзник.
После раздела 1792 года Пруссии отошли западная Великая Польша и северная Куявия. Пруссаки начали наводить там свои порядки: закрыли доступ к основным должностям для всех, кроме немцев, отменили привилегии для мещан, дарованные Конституцией 1791 года, перевели крестьян под юрисдикцию чиновников. Поляки возроптали, и Костюшко собирался нанести первый удар в Лодзенском воеводстве, тем более что крестьяне, решившие было, что они больше не холопы своих панов, были жестоко образумлены пруссаками. Но тут Игельстрём издал приказ о сокращении вдвое численности польских войск и о том, чтобы поляки записывались в российскую армию. Кавалерийская бригада Антония Мадалинского отказалась ему подчиниться и двинулась на Варшаву; сформирована она была в Великой Польше и потому состояла теперь по большей части из подданных прусского короля. Екатерина направила в прусский лагерь Нассау-Зигена для «координации действий союзников», а на самом деле для того, чтобы узнавать о планах Фридриха-Вильгельма из первых рук.
Появление в лагере тезки принца, Шарля Оде-де-Сиона, тоже успевшего послужить и пруссакам, и полякам, а теперь российской императрице, стало для него подарком судьбы: они быстро поладили, и Нассау начал давать савояру деликатные поручения. Оде же был счастлив услужить человеку, при жизни ставшему легендой: о принце, объехавшем весь мир с экспедицией Бугенвиля, сражавшемся с пиратами и турками, не говоря уже про дуэли, уцелевшем при взрыве батареи в Гибралтаре, лично знавшем всех королей Европы и даже имевшем интрижку с женой таитянского вождя, ходили самые невероятные рассказы. Ничего удивительного, что когда на Нассау, как сейчас, накатывало желание выговориться, он находил в Оде внимательного слушателя.
– Что такое отечество для нас с вами? – развивал свою мысль Нассау. – Вот я: немецкий принц, родившийся в Париже от матери-француженки, испанский гранд, польский магнат, женат на польке и служу России. По-русски знаю всего два слова…
– Какие? – живо поинтересовался Оде, не понимавший по-русски вообще.
– Pirog и griby.
– И что это значит?
– «Вперед» и «греби».
Оде-де-Сион повторил эти слова про себя несколько раз, стараясь запомнить.
– Так где же мое отечество? В Вестфалии, где я никогда не был? Но Зиген теперь захвачен французами. Во Франции? Но революционеров я своими соотечественниками не считаю; те же, кого я могу так именовать, ныне в Кобленце. В Польше? Мой дворец в Варшаве шесть лет назад сгорел. Знаете, как называется улица, где он стоял? Дынàсы. Так они произносят «де Нассау». Крым? Мои владения в Массандре (я ведь насадил там виноградники – хотел возделывать свой сад, как учит Вольтер) отошли в казну за долги. Мне шестьдесят лет, Шарль. Мое отечество – это весь мир. Вернее, нет, не так: мое отечество – это я сам. И вы такой же: родились в Савойе, живёте в Польше, женаты на немке… Кстати, есть какие-нибудь новости?
Оде покачал головой, показывая, что уверенным ни в чем быть нельзя.
– Верный человек сообщил мне, что Каролина жива, родила сына… неделю назад… Имение разграбили подчистую, но ее, по счастью, не тронули. Но как она там одна… Ей всего двадцать два года… И дочка, наш первенец, умерла младенцем…
– Ничего-ничего, – Нассау ободряюще похлопал его ладонью по руке. – Вот увидите, всё будет хорошо. Парадокс жизни заключается в том, что она продолжается при самых не подходящих для нее обстоятельствах и обрывается при самых благоприятных. Уж поверьте мне, я знаю.
Глубоко посаженные серые глаза принца были удивительно прозрачными и притягивали к себе; в них хотелось смотреть, как в чистый источник. Оде знал о прозвище Нассау – Неуязвимый, но подумал, что ему больше подошло бы другое – Непостижимый.
Компания офицеров за соседним столом разразилась громоподобным хохотом, но принц даже не посмотрел в их сторону, как будто никого, кроме них двоих, здесь не было.
– Так вот, на таких людях, как мы с вами, и держится мир, – продолжил он серьезно. – Мы сами выбираем себе отечество, и наши достоинства и недостатки принадлежат только нам самим, не являясь унаследованными от нации или страны, которую мы считали бы своей матерью.
Перед мысленым взором Оде промелькнуло, как в калейдоскопе, несколько картин: круглый донжон замка Фаверж за серой каменной стеной, с навершия которой вечно сыпалась черепица; поросший лесом конус горы Сюлан с проплешинами снега, скошенный зуб Ла-Турнетт, сахарная вершина Монблана, проступающая на фоне лазоревого неба в ясную погоду… Покрытый мелкими водоворотами ручей Глиер, который деревья в долине ревниво укрывают своими ветками… Средневековое аббатство Таллуар, слепые башни отражаются в зеленой воде Роны… Говорят, два года назад Таллуар спалили французы…
– Способность оторваться от материнской юбки – вот что ценится и в человеке, и в нации, – разглагольствовал Нассау. – Мы сами себе отечество, и мы несем его всюду с собой. Италия – это итальянцы, Франция – французы, Германия – немцы. При любом дворе мира найдутся итальянские живописцы, певцы и музыканты; они создают Италию вокруг себя и живут в ней, находясь при этом в Берлине, Петербурге или Варшаве. Вся Европа говорит по-французски, и люди со средствами вплоть до Стамбула выписывают к себе французских поваров, садовников, парикмахеров, виноделов, чтобы те воссоздали у них частицу Франции. В любой академии наук найдутся немецкие химики, физики, философы и инженеры. А кто такие русские, спрошу я вас?
Оде пожал плечами и слегка улыбнулся, показывая, что ответить на этот вопрос ему затруднительно. Но ответа и не требовалось.
– У русских ничего этого нет, но они хотят всё это иметь. Они учатся у итальянцев, немцев, французов, и когда-нибудь у них будет своя литература, музыка, живопись, наука и промышленность. Но пока они могут только покупать чужое, а для этого им нужна их земля – источник их богатства. Русские без своей земли – ничто. Во Франции они сразу начинают подражать французам, в Германии – немцам. Русские умеют отважно умирать, этого у них не отнимешь. Вы знаете эпитафию на Людовика XVI, которую написал бывший паж королевы граф де Тилли? «Король умел любить и умирать. А мог бы править, кабы мог карать». Так вот, это сказано про русских: они умеют любить и умирать, а правят ими те, кто не знает жалости. Страна – источник их могущества; чем больше страна, тем больше могущество, а чем они сильнее, тем больше их страна, потому-то они постоянно воюют: за выход к морю, за новые территории. Отняли у турок Крым, у поляков Литву. И это не предел: им нужна Финляндия, а еще императрица Екатерина грезит о константинопольском троне для своего младшего внука.
– Но ведь это не может продолжаться бесконечно? – подал голос Оде.
Нассау согласно кивнул.
– Когда-нибудь это прекратится. Вы слышали про мой проект похода в Индию, в империю Великих Моголов? Покойный князь Потемкин сделал всё, чтобы он не состоялся. Так что они всё-таки остановятся. Но не при нашей жизни. И можете мне поверить, что этой войной дело не ограничится, а прошлогодний раздел Польши – не последний, и Россия отхватит себе самый большой кусок.
– А поляки? – спросил Оде. – Вот уж кто любит свое отечество!
– Отечество поляков – их славное прошлое, – возразил Нассау. – Конечно, прошлое есть у всех, им можно гордиться, его можно стыдиться, но нельзя забывать, что оно тебе не принадлежит, поскольку было создано не тобой. Нельзя идти вперед, постоянно оглядываясь назад. Знаете, что сделал король Понятовский после встречи с императрицей Екатериной накануне последней войны с турками? Кстати, это я устроил ему ту встречу… Satis. Так вот, он установил в Лазенках памятник Яну Собескому, спасителю Вены от турок. Как будто одним лишь патриотическим воодушевлением можно создать боеспособную армию. Они так носились со своим прошлым, что лишили своих детей будущего. Оте-чество… Отечество – это мы, Шарль. Мы сможем создать его для наших детей, где угодно. Но если мы сами – пустое место, то и отечества не будет ни у нас, ни у них…
* * *Карету раскачивало из стороны в сторону и подбрасывало на ухабах. Изабелла была бледна, на лбу и верхней губе выступила испарина; Михал ласково сжал ее холодную руку, спросил взглядом: не остановиться ли, но она сделала вялый отрицательный жест левой рукой и бессильно уронила ее на колено.
Что за дороги, Создатель! Английские каретники всегда интересуются у заказчика, для каких мест предназначен экипаж: для езды по мягкому проселку, по булыжникам городских мостовых или для континента? В последнем случае карета должна быть еще крепче городской, потому что на континенте ужасные дороги – там, где в Англии достаточно двух лошадей, в прочих странах запрягают шестериком! И это они имели в виду французские и немецкие дороги, которые в сравнении с польскими ровны, как скатерть. Почему не позаботиться о том, что приведет к общей пользе? Во Франции при Людовике Возлюбленном крестьян, проживающих вблизи дорог, обязали дважды в год их ремонтировать под надзором инженера. Королевская повинность. Бесплатный труд свободных крестьян в течение нескольких дней в году потом припомнили королю как пример его произвола и издевательства над народом. А в Польше, где крестьяне – бессловесный скот, дорог почему-то сделать нельзя. Хотя зачем их строить? Чтобы облегчить передвижение иностранным армиям, которых сюда приводят то одни, то другие?