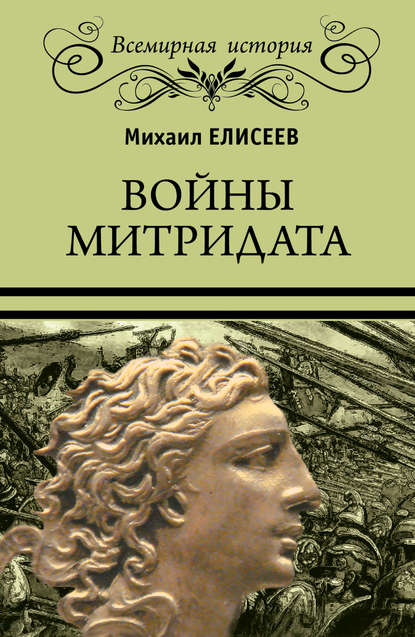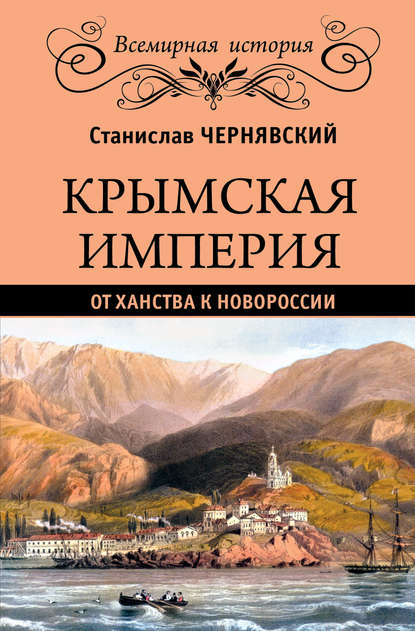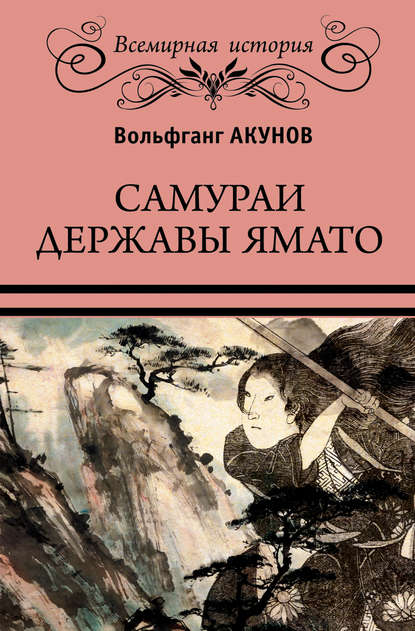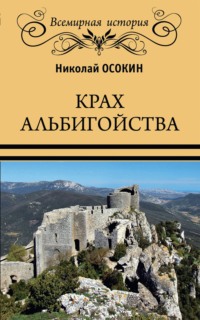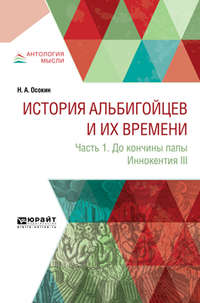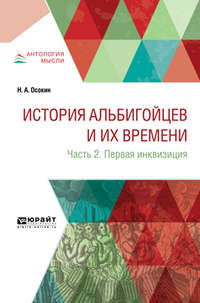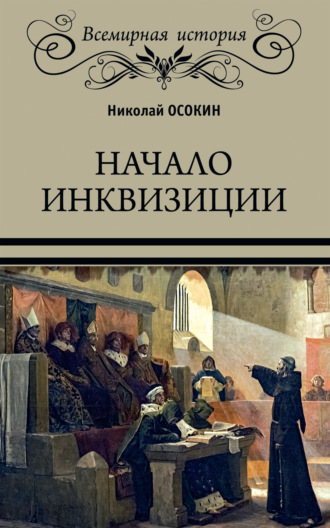
Полная версия
Начало инквизиции
Казалось, что древняя муниципия счастливо спасла себя от порабощения. Но злой гений Тулузы в лице ее епископа опутывал ее новыми сетями. Вместе со старым приором кафедрального собора Фулькон поехал по улицам города, заклиная жителей сложить оружие. Он обещал им своей епископской митрой, от имени Монфора, полное забвение прошлого; в противном-де случае погибнут все их лучшие люди, находящиеся в плену. Опять новая борьба в сердцах горожан и сановников. Влиятельные лица собрались на совещание. Мнения решительно разделились: одни, наученные опытом, видели обман; другие, беспокоясь о судьбе пленников, соглашались на сделку. Епископ и аббат в соседнем шомещении нетерпеливо ожидали решения. Прения продолжались долго.
Чувство жалости и любовь к землякам одержали верх. Тулуза соглашалась покориться.
С радостью поспешил прелат к Монфору. Вождь велел благодарить капитул и просил передать, что завтра он лично прибудет в Капитолий для подписания договора и приглашает туда всех должностных граждан, носящих оружие, то есть местных рыцарей. Монфор прибыл, окруженный своими баронами. В город между тем вступили его войска и подошли к Капитолию. Когда заседание в присутствии графа было открыто, то первое слово было дано аббату Святого Сатурнина. Он говорил о той счастливой дружбе, какая настала теперь между новым государем и тулузцами.
– Всем этим вы обязаны ходатайству вашего епископа, – прибавил он.
В честь изменника раздались восхваления.
– Может быть, между вами есть недовольные, – продолжал аббат. – Они могут свободно удалиться из города. Оставшимся же не будет причинено никакого насилия. Я и епископ в том порукою.
Нельзя было лицемерить с большим искусством. Прелатам были хорошо известны намерения Монфора насчет города. Он не был тронут покорностью и смирением победителей. Неблагоразумно явившиеся на собрание стали жертвой его гнева. Все присутствовавшие, окруженные его войсками, вынуждены были сложить оружие, а рыцари и знатнейшие горожане были заключены в оковы. Все главные пункты и башни города были немедленно заняты. В страхе и в предчувствии новых бедствий расходились обезоруженные граждане. Скорбь была написана на лицах. Но тулузцы не знали еще всей той ненависти, какую способен был питать к общине французский вельможа того времени. К Тулузе же Монфор питал теперь особенную ненависть, так как она глубоко уязвила его самолюбие.
Он собрал своих баронов и сделал предложение, которое должно была устрашить даже средневековых феодалов. Он объявил, что хочет разрушить город до основания и сровнять его с землей. Любимый город древних кельтов, столица тектосагов, крепость римлян, Тулуза должна была окончить свое историческое существование от руки свирепого франка и предводимых им крестоносцев.
Первым восстал против такой меры брат вождя – Гюи; он видел в ней покушение отчасти и на свое достояние.
– Тулузцы и без того жестоко наказаны, государь, – говорил он. – Если, увлеченный жестокостью, ты разрушишь город, то приобретешь дурную славу в христианском мире. Ты берешься защищать имя Христово между еретиками, а между тем делаешься ненавистным церкви[21].
Даже Фулькону не могло понравиться такое намерение. Симона с трудом уговорили ограничиться большой контрибуцией, которой тулузцы выкупили существование своего славного города. Монфор велел консулам и советникам собраться в церкви Святого Петра; туда же были приведены пленники из замка. Победитель объявил здесь городу свою волю. Тулуза должна уплатить ему тридцать тысяч марок серебром. Для ограбленных жителем это была огромная сумма. Но эта же мера послужила и к спасению Тулузы.
Добыть такие деньги можно было только или открытым грабежом, или невыносимыми вымогательствами. Ответственность за уплату была возложена на особых сборщиков, выбранных из состоятельных лиц. Последние поплатились большей частью своего имущества, и их ненависть к французским порядкам могла лишь усилиться.
Долго пересказывать те жестокости, которые совершались при сборе налога. «Народ стонал в рабстве», – лаконически выражается католический историк Альбигойской войны, близкий к описываемым событиям. «Слуги Монфора, – рассказывает очевидец, тулузский патриот, – стали чинить всякие насилия, оскорбления и несправедливости. Везде они стали появляться угрожающие, свирепые; спрашивали и брали что хотели. Во всякое время и повсюду можно было встретить в Тулузе и мужчин и женщин, одинаково печальных, неутешных и негодующих, слезы лились у них из глаз, и сердце сжималось от боли. Иностранцы хозяйничали в городе, скупая все у жителей, так что им самим не оставалось ни муки, ни зерна, ни порядочных одежд».
«О благородный город Тулуза, так глубоко униженный, каким позорным людям Бог предал тебя!»[22]
Воспоминание о старом, прирожденном графе и его сыне, этих несчастных скитальцах, было единственным утешением в великом народном горе. С изгнанниками тулузцы установили тайные связи, и, лишь только Монфор выступил из столицы для покорения графства Фуа, агитация против иноземного господства снова усилилась.
На этот раз она прошла далеко не бесследно. Приближались дни хотя и временного, но довольно продолжительного торжества национального дела в Лангедоке. Вместе с этим торжеством должно было усилиться альбигойство.
Второе восстание в Тулузе, осада Тулузы и смерть Симона Монфора
Монфору уже не суждено было больше увидеть город, которому он принес столько зла. Оставляя Тулузу, он не подозревал, что целым рядом событий и даже небесславных для него успехов, он постепенно отдаляется от главной цели Крестового похода.
Владетель графства Фуа, Раймонд Роже, лишенный своего наследия Иннокентием III, обратился с мольбой к новому папе, Гонорию III, об оказании справедливости. С этою целью он отправил к нему посольство. Со всех сторон слышал Гонорий предостережения против еретика, но, желая ознаменовать первые дни своего правления актом правосудия, приказал двадцать седьмого ноября 1216 года местному легату ввести графа де Фуа во владение его землями, в последнее время управляемыми Римской церковью. Извещая об этом Раймонда Роже, он писал ему между прочим:
«Многие лица не советовали мне возвращать тебе самый замок Фуа из опасения, что, получив его, ты снова смутишь мир и оскорбишь веру, но мы решились привести в исполнение наше решение, так как ты поклялся перед кардиналом Петром Беневентским верно служить церкви, почему этот легат и дал тебе разрешение. Мы не хотим навлекать нарекания на Римскую церковь, что она не держит своих обещаний. Но если ты откажешь нам в повиновении, то будь уверен, что наша рука всегда простерта над тобой, дабы немедленно наказать тебя».
Тут же папа сообщает, что такая милость сделана отнюдь не даром и не оплошно, что сам граф Роже Бернар, его сын и граф Коммингский, его племянник, дадут прочное обязательство, что не нарушат более мира и «не станут мутить веру». Они должны были обещать, что при первой таковой попытке замок Фуа навсегда перейдет к Римской церкви. Сверх того Раймонд Роже должен заплатить пятнадцать тысяч солидов церкви за охрану Фуа.
Исполнив все эти обязательства, граф надеялся получить свою столицу. С такими мечтами он ехал из Каталонии, где жил изгнанником. Он рассчитывал, что невзгоды его прошли. Он был уже стар; энергия оставляла его. Никто из провансальских князей не отличался никогда такой ненавистью к Риму, как Раймонд Роже, но теперь он чувствовал, что новая вера не может продолжать борьбу с тиарой. Вряд ли он был способен на какую-либо инициативу. На сцену выступало новое поколение. Те герои Прованса, которые проявили себя на заре альбигойства, пережили столько бедствий за ересь дуалистов и за учение Вальдо, что могли со спокойною совестью передать продолжение борьбы своим детям.
Чем был Раймонд Юный для Тулузы, тем для Фуа стал Роже Бернар. Отцы оставались зрителями подвигов своих детей, когда последние с юношеской отвагой рвались в неравную борьбу. Отцы, конечно, готовы были разделить радость торжества, – оно было чаянием их жизни, – но и теперь и впредь они предпочтут оставаться пассивными участниками.
Монфор очень хорошо понимал это. Он знал, что местные династии – центр притяжения для населения, и потому поставил себе целью искоренить их. Он понимал, что ересь погибнет лишь тогда, когда его крестоносцы водворятся в Лангедоке как землевладельцы, на феодальных отношениях к нему одному. А для этого надо было уничтожить представителей прежних династий. Потому ему было весьма неприятно снисхождение, оказанное Гонорием III Раймонду Роже. Но как обойти всемогущую папскую буллу, как попытаться вторично изгнать графа из его областей? Он искал предлог и нашел его.
В последнее время около замка Фуа был возведен укрепленный городок Монгреньер. Он был построен с удивительной быстротой. В Лангедоке при счастливых экономических условиях это бывало нередко. Монгреньер находился на вершине горы, доступ на которую был очень затруднен. Полагали, и небезосновательно, что новая крепость станет крепким орешком для тех, кто попытается овладеть ею. Там-то, по словам Петра Сернейского, поселились «возмутители и гонители» истинной веры; там было убежище врагов Римской церкви[23].
Крепость занимал Роже Бернар. Слова хроникера дают достаточное основание причислить молодого графа к главам вождям альбигойского движения. Монфор знал, какое население жило в Монгреньере. Совершенно неожиданно, шестого февраля 1217 года, он явился со своей армией и встал перед крепостью. Роже Бернар считал, что находится в совершенной безопасности. В горах лежал снег; зима в этой местности была всегда суровее, чем в окрестностях. Всадники Монфора привыкли преодолевать бури и непогоды – чего нельзя было достичь силой, они достигали терпением.
Вопреки ожиданиям жителей, их город скоро оказался в плотной блокаде. Французы пресекли все пути сообщения; в городе истощались припасы продовольствия.
Пока сын находился в такой опасности, отец не решался вернуться в Фуа, потому что того не желал Монфор. Напрасно он ссылался на папскую буллу, гарантировавшую ему мир. Духовенство вняло было его представлениям, и в Перпиньяне депутация клириков явилась в лагерь Монфора. Но Симон решительно заявил, что не уважит их просьбы, что он не собирается допускать возвращения династии Рожеров и что намерен занять и укрепить замок Фуа. Духовенство не хотело менять Монфора на бывшего друга еретиков и дозволило вождю крестоносцев нарушить папскую буллу до прибытия нового легата, кардинала Бертрана, назначенного папою в январе 1217 года.
Между тем положение Роже Бернара становилось опасным. Воинов у него было немного, на вылазку он не решался, а помощи от отца ожидать было невозможно, поскольку французы уже заняли Фуа. Он принужден был заговорить о капитуляции Монгреньера, требуя свободного выхода с оружием для себя и пропуска для осажденных еретиков. Едва ли Монфор принял бы такие условия, если бы не вести о новых волнениях в Нарбоннском диоцезе. Он согласился на пропуск, взяв при этом обязательство с Роже Бернара не поднимать оружия на французов в продолжение года.
Снова обреченный на скитальчество, Бернар поехал к отцу на каталонскую границу. В Монгреньере и Фуа были оставлены французские гарнизоны.
Восстание в Нарбоннском диоцезе и Лига нижних приронских городов показали французам, насколько непрочна власть завоевателей на все еще враждебной территории. Монфору удалось погасить мятеж, но против Лиги, душой которой был город Сень-Жилль, усилия крестоносцев оказались бесполезными.
Бывший свидетелем позора Раймонда VI, Сень-Жилль ревностно стоял за эту династию. Дошло до того, что сен-жилльцы явно возмутились против духовенства, с которым были связаны воспоминания о насилиях чужеземцев. Со Святыми Дарами в руках, босые, местный аббат и его клир вышли из Сен-Жилля торжественною процессией, предварительно произнеся проклятие над еретическим городом. Только этого и хотели горожане. Они тотчас же провозгласили над собой власть Раймонда как законного государя.
Монфор начал свои подвиги на Роне убийствами и резней в замке Бернис, где, «сообразно заслугам», вздернул на виселицы тех, «кого следовало»[24]. Эти казни произвели то действие, что альбигойцы стали сосредоточиваться в цитаделях Сен-Жилля и Бокера. В лагере Монфора находился только что прибывший легат, кардинал Бертран. Дорогой он едва не попался в руки еретиков. Его наблюдению поручались провинции Эмбрен, Вьенна, Арль, Нарбонна, Ош и диоцезы Менд, Пюи и Альби с правом вершить в них все «дела мира и войны». Провансальские прелаты безусловно должны были исполнять его распоряжения, а для духовных назиданий он выписал в тулузский край из Парижа нескольких молодых богословов. Он готовился быть свидетелем окончательного и прочного водворения католичества на берегах Роны. Рыцари Монфора уже подошли к Сен-Жиллю. Легат остался выжидать в Оранже после того, как получил от сен-жилльцев решительное запрещение входить в город, он заявил, что достигнет того силою.
Между тем Раймонд Юный, этот живой дух страны, приносивший повсюду свежую энергию, побывав в Сен-Жилле, учредил свою резиденцию в Авиньоне. Он вел отсюда сношения с тулузцами, производил между ними агитацию и, считая себя независимым государем, издавал грамоты, в которых титуловался: «Раймонд, Божиею милостью, молодой граф Тулузы, герцог Нарбонны и марки Прованса»[25]. От своего имени он давал разные льготы городам Прованса, как например, Марселю и Бокеру, актами утверждая их самоуправление и содействуя тем развитию их промышленности и торговли.
Старый дух свободы живительно повеял на эти древние общины. Те узы, которыми Раймонд привязал себя к местной коммунной жизни, были настолько прочны, что отряды Монфора терпели поражения везде, где только ни появлялись. Крестоносцы отступили от Сен-Жилля для спасения легата, которого марсельцы, авиньонцы и бокерцы осадили в Оранже. Разогнав одним появлением пехоту общин, Монфор по совету легата сосредоточил все свои силы в Вивьере для перехода через Рону. Во всех других пунктах переправа была невозможна, поскольку городские дружины укрепили местность и неусыпно наблюдали за берегом, а авиньонцы пустили несколько судов по Роне, чтобы препятствовать переправе крестоносцев.
Наконец, преодолев упорное сопротивление, Монфор перешел Рону под Вивьером. Вешая и предавая огню всех, кто попадался ему на пути, он остановился ненадолго в Монтелимаре, жители которого изъявили ему покорность, но отказали в подчинении легату. Видимо, Монфору это даже понравилось. По намекам летописи, здесь жило много еретиков, но Симон неожиданно смягчился, когда получил от владельца замка ленную присягу. Он готовился к нападению на замок Крёст, в диоцезе Валенции, который принадлежал Адемару де Пуатье, графу Валентинуа, другу Раймонда Юного. Вероятно, этот замок представлял выгодную позицию и был хорошо укреплен, ибо для его осады потребовались почти все силы Монфора и еще сто французских рыцарей, присланных королем Филиппом. То был первый факт прямого участия французского правительства в крестовом предприятии и в истории завоевания страны.
События под Крёстом показали, насколько чужд был Монфор делу непосредственного служения Римской церкви. Всегда отважный и неуступчивый, он, невзирая на присутствие легата, вступает в переговоры с графом Валентинуа, даже предлагает ему свою дочь в замужество с тем только, чтобы ему уступили этот драгоценный замок и чтобы граф Адемар впредь не нападал на крестоносцев. Об альбигойцах в договоре не было и помину. Предложение было принято, и вот друг Раймонда Юного делается другом вождя крестоносцев и даже связывает себя с ним родственными узами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
J.J. Percin. Monumenta conventus Tolosani ordinis ff. Tol. 1693. Opusculum de haeresi Albigensium, de Inquisitione etc. p. I, 84; р. III, 109. Автор с замечательной ревностью старается удержать за доминиканцами славу первых инквизиторов; сразу после вынесения святым папой Гонорием III буллы против альбигойцев (от 1218 г.) он пишет: «Наши братья исправили многое из того, что ослабляло курию».
2
F. Macedo. Schema congregationis Sancti Officii romani. Pad., 1676.
3
Источники для биографии св. Доминика занимают половину первого тома в Acta Sanctorum (curante J. Carnandet. Par., 1867), p. 339–654. Обстоятельный разбор этого материала и обширное критическое введение по всем частным вопросам биографии Доминика (р. 359–545) предпосланы тексту первых житий: auctore B. Jordano synchrono ex ordine Praedicatorum, et secundo ejusdem Ordinis Magistro generali (p. 541–558); Vita altera quam F. Bartholomaeus Tridentinus exord. Praed. ante medium seculi XIII breviter conscripsit; Acta ampliora quae F. Theodoricus de Appoldia, suppar Ordinis Praedicatorum scriptor, exvariis antiquioribus monumentis collegit. Теодорик, немецкий доминиканец из Эрфурта, писал в 1290 г. Далее следуют акты относящиеся к частностям жизни и к чудесам святого (628–641 еtс.). В период между Иорданом и Теодориком писали еще другие биографы, работы которых частью помещены у Quetif et Echard (scriptores ord. praed.), частью не изданы.
4
См.: Barthol. Tridentinus, c. 1–2; Appoldia, c. 12; lordanus, c. 6, 11.
5
Barthol. Tridentinus, c. 5; p. 556.
6
Acta Sanct.; p. 647.
7
См.: Acta Sanct.; p. 643, 652.
8
Epist. auth.; p. 641–643. Доминику приписывают молитву за грехи всех людей: «“Господь, смилостивись над людьми! На чьем челе нет греха?!” И, терзаемый бессонницей, он плакал и рыдал над людскими грехами» (р. 642).
9
См.: Registra Innocentii III; I. VI, ер. 106, 197, 199; I. XII, ер. 17, 66–69 и др.
10
См.: Gerardus de Fracheto. Vitae fratrum; Acta Sаnct., р. 441.
11
Первым биографом св. Франциска был его ученик Bonaventura; к последующим принадлежат Th. Celsno, I. de Ceperano. B Acta Sanctorum (oct. t. II, 1866) помещено кроме соч. Бонавентуры (742–798) краткое дополнение к житию, приписываемое трем друзьям Франциска. Из пособий, которые почти все принадлежат к клерикальному источнику, лучшие – Ed. Vogt. Der heilige Franciscus Von Assisi, biographischer Versuch. Tub., 1840; и протестантское – Carl Hase. Franz Von Assisi, ein Heiligenbild. Lpz., 1856.
12
Acta Sanct.; aug. 1.1, 447.
13
Bullarium Romanum, ed. 1857, Turin; III, 309.
14
Cansos; CLIII.
15
Cansos; CLIV.
16
P. Cern., c. 83; Guil. de Pod. Laur., c. 28; Cansos, CLIX.
17
Об этом упоминает только Р. Cern.; с. 83 (Migne. Patrologia; t. ССХШ, р. 701).
18
«При подходе графа к Тулузе его передовые воины были вероломно схвачены горожанами… и заключены…» См. Р. Cern.; с. 83. Этому противоречит Chron. prov., 138 (Megc); Cansos, CLX.
19
Chron. prov.; 139.
20
Chron. prov.; 139.
21
Chron. prov.; 139.
22
Cansos; V. 5048 etc.
23
Petr. Cern.; c. 84, p. 705.
24
P. Cern.; c. 84.
25
Preuves de l’hist. de Languedoc; t. V, № 85, a. 1217–1219.