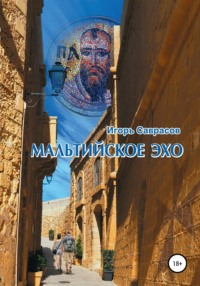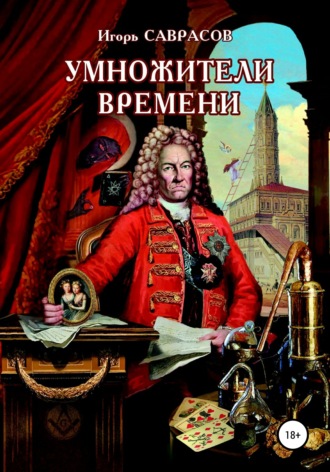
Полная версия
Умножители времени
– Вообще ничего? – любопытствовал настырный Джеймс.
– Аналогичный случай был в Тамбове.
– Не понимаю, – огорчался Консультант.
– Как сказал один рабочий: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи».
– Ну ладно, перезвоню через три-четыре дня. Или вы… Удачи!
Глеб снова открыл книжку. Как это часто было у него, чтение не захватывало полностью, а давало подпитку, новые эмоции и ключи к собственным размышлениям. Точно так, как в этой книжке: напряжение Ид хочет вырваться из-под контроля Эго, да не тут-то было. Нет, чтение – не лучший способ расслабиться бедным Либидо и Мортидо. Лучше самому сочинять или, к примеру, колоть дрова. Сублимировать, значит. Но можно засублимироваться до шизофрении. Тебе-то хорошо: живёшь в своём мире сочинённом, но окружающие шибко удивляются. Бывают недовольные. Тобой, эгоцентриком эдаким. И почему, главное, зачем, всё сводить к сексу? На сеансах этих своих всё целятся в эту точку. Глеб не стал давать себе раздражиться далее, хотя и подумал «Покопаться бы в вашей биографии, особенно когда вы, доктор Фрейд, были отроком прыщавым, “со взором горящим”, онанистом, быть может, неистовым». Настроение быстро сменилось, когда Глеб вспомнил пародию на одного советского поэта, густо мешавшего лирику с пафосом труда русских плечистых и грудастых женщин: «Бываю на Тамбовщине, бываю на Смоленщине, а думаю… о женщине». Да… нет «пленительной ясности».
Бессознательное подарило Всеволожскому такой сон. Будто он в клубе, на дне своего рождения. Одна из двух клубных дам, Нелли Аркадьевна, сидит у него на коленях, жарко дышит ему в ухо… Говорит о Праге… Запах духов неприятен, приторно сладкий. Уголками глаз Глеб видит её чересчур пухлые губы, ярко накрашенные помадой цвета граната. Женщина шепчет: «Привези, Гл-ебуля, гранатовые серьги из Праги… чешский знаменитый гранат… в виде капель… капли крови… хочу… очень хочу Глебуля!» Другая дама, Жанна Максимовна, тоже весьма «подшофе» раскладывает фишки на плечах Арнольда Вениаминовича, самого удачливого игрока в рулетку в Клубе, и, обернувшись в сторону Всеволожского, тоже начинает стенать: «И я хочу… Жить хочу!» Затем обе дамы в унисон: «Жить! Жить!» И капли гранатового цвета текут из уголков губ и глаз.
– 6 —
Глеб Сергеевич проснулся в четыре утра. Когда сны, точнее какой-то сон, был необычным и запоминался к пробуждению, Всеволожский сразу, ещё лежа в кровати, пытался его растолковать, уловить подсознательные смыслы и знаки. «Что главное? Да, цвет крови… или вот “Жить!”… Кто в опасности? Кто-то может умереть?»
Он принял холодный душ, выпил полстакана воды с лимоном, надел спортивный костюм, новенькие белые кроссовки и направился на пробежку. Ноги сами несли в сторону гостевой парковки. Не раздумывая, он сел в машину. «Зря я взял слабенькую машину. Китаец ведь говорил… И доктор Йозеф. Ладно, поехали! Жизнь – игра!»
Всеволожский ехал по ориентировке, что дал ему Чхаэ. Вот поворот на гору, а вот видна башня старого замка. Крутой подъём, не вскарабкается машинка. Но вот небольшой «карман». «Оставлю машину и поднимусь пешком».
Наконец появился забор. Плотный, высокий. Ничего невозможно разглядеть. Но если обойти и взобраться на тот пригорок слева от забора? Он так и сделал. От пригорка резко вниз убегал горный ручей и уходил под забор. Вековой платан, ракиты и акации хорошо скрывали разведчика, а он мог наконец обозреть территорию.
Сразу за забором, в том месте, куда под него убегал ручей-озеро. Вся усадьба в плане напоминала вытянутый шестиугольник. Вот ворота. У ворот запаркован серый мощный «Range Rover Sport». Виден лишь левый боковой фасад старого полуразвалившегося замка. Брусчатка, лужайки, деревья, резкие кусты. Примечательны лишь два момента. Первый: строение, то есть замок состоит как бы из двух соприкасающихся частей. Главный фасад, тот, что обращён к воротам, – старинный и заброшенный. А задний фасад, который был плохо виден, отреставрированный, имеет вполне жилой вид. Второй: от крыльца заднего фасада уходит прямая длинная аллея из ивовых деревьев.
В окне второго этажа, в жилой части замка зажёгся свет. Само окно Глеб не видел, но осветились часть крыльца и начало аллеи. Глеб взглянул на часы: без четверти шесть. Через пять минут Глеб увидел двух резвящихся белых пудельков. Они бегали вокруг туй, спирей, барбариса и боярышника. Им нужно было обязательно оббежать и «пометить» все свои заповедные места. Следом за собачками вышла женщина в толстом махровом халате и вязаной шапочке. Скинула халат и шапочку и, оказавшись абсолютно голой, зашла в аллею и начала совершать то ли танец, то ли какой-то ритуальный обряд. Она каталась по росистой траве, кружилась вокруг ив, нежные шелковистые веточки обвивались вокруг её тела, снова каталась по траве и перебегала к другому дереву. Так продолжалось минут десять, после чего женщина, прихватив халат и шапочку направилась к озерку. Собачки побежали за ней. Глебу стало отчётливо видно лицо женщины: Мона-Даниэла. Но любоваться этой чудесной Авророй помешали собаки. Они учуяли Глеба и начали лаять. Другим неудовольствием было то, что волосы на голове доктора Даниэлы были очень короткие и совсем седые. «Да нет же, белые, выкрашенные и стрижка такая модная, – успокоил себя мужчина. – А на работе носит парик? Кто их разберёт, этих женщин?!» Тем временем женщина бросилась в воду и стала плавать. Собачонки тоже поплыли в сторону забора, всё ближе к замершему Всеволожскому. Плыли, гады, и лаяли.
– Фу, Полет! Фу, Колет! Чего это вы? – крикнула Даниэла по-французски.
Вышла из воды, надела халат и шапочку, внимательно посмотрела в сторону пригорка, усмехнулась, направив ладонь в строну Глеба и направилась к дому. «Нужно быстро “сматывать удочки”, – подумал Глеб Сергеевич, но от волнения (или от ладони и взгляда Моны?) сделал неловкое движение и, потеряв равновесие, начал неконтролируемый слалом вниз к дороге. Пробороздив гальку уже «пятой точкой», он быстро добежал до машины.
«Эх, костюм и кроссовки перепачканы, на ладони левой руки ободрана кожа. Да и осыпь у дороги заметна. Пацан! Лох!»
Охранник удивлённо посмотрел на жильца, а Глеб Сергеевич зачем-то начал оправдываться: «Я люблю кросс по дремучей пересечённой местности».
– *** —Доктор Даниэла, сухо ответив на приветствие пациента, смотрела на Всеволожского тяжёлым, как ему показалось, взглядом. Она была без затемнённых очков, без медицинской шапочки и без белого халата. И молчала. Пауза затягивалась.
– Почему вы не предлагаете мне возлечь на вашу кушетку? – Попытался пошутить Глеб.
– Что у вас с рукой? – спросила доктор.
– Так, поскользнулся на каменистой осыпи.
– Где?
– Тут недалеко, во время утренней пробежки.
Ему было очень стыдно, и это было трудно скрыть. А Даниэла решила скрыть, что заметила осыпавшиеся на дорогу камни, когда выезжала из дома. Только глаза аквамаринового цвета не скрывали тревожного удивления. «Она не выспалась просто», – расценил обстановку пациент. И это была правда. Та часть правды, что бывает снаружи всей «матрёшки правд».
– Знаете что, господин Всеволожский… Мне не хочется, нет, мне некогда играть в игры. – Она оживилась вдруг, и глаза потеряли зеленоватый оттенок, а добавили белого и жёлтого.
«Лунный камень. Красивые глаза», – подумал мужчина.
А женщина продолжала:
– Принесли? Покажите!
Она очень волновалась. А Глеб тянул время. Тогда Даниэла сама сделала решительный шаг и достала из сумочки старинный серебряный портсигар. Открыла его, достала три карты и положила на стол.
Всеволожский вздрогнул от неожиданности. Вот оно! Забыв обо всех предосторожностях, тоже волнуясь и радуясь чему-то, он положил на стол рядом с портсигаром Моны свой, точно такой же. Жестом предложил даме открыть. Она мгновенно достала и стала, жадно вертя в руках, подставляя на просвет, рассматривать карты. Потом положила на стол. Села. Снова начала, беря по одной в каждую руку свою и «Глебову» карту, внимательно смотреть.
– Ничего! Абсолютно одинаковые! – огорчённо заключила. Снова возникла пауза. И вновь продолжительная.
– Присядьте, наконец, к столу, – жестом и словами сказала доктор.
– Я и жду приглашения… – Он сел и тоже, взяв в руки карты, начал рассматривать их. Потом взял в руки портсигары. – Абсолютно одинаковые, вы правы. Вот вензели… Две дамы и семёрка… Но вы, я вижу, чем-то сильно огорчены.
Руки «Моны» чуть тряслись, пальцы были какие-то скрюченные, глаза тусклыми. Погасшими.
– В том-то и дело. Он ничего нам не может подсказать! Не смог! – Она была готова разрыдаться.
– Кто? – недоумевал Глеб.
– Отец, – уже рассеянно, успокаиваясь, ответила «Даниэла».
– Какой отец?
– Наш. Мой и моей сестры Даниэлы. А я – Мона. Отец – Яков Вилимович Брюс.
Самое время упасть на её кушетку! «Да… Может, долгие годы занятий психоанализом не проходят бесследно?!» – подумал огорчённо Глеб. Он не знал, что говорить. Молчал. Он полагал, что она родственница Брюсам, но не дочь?!
– Извините меня, Глеб Сергеевич. Нервы. Всё равно я вам безмерно благодарна. Вы ведь что-то знаете ещё?! Кроме карт?! Знаки, книги? Вы нашли тайник? Как к вам попали карты?
– Я не уполномочен лично… – вяло потянул Глеб Сергеевич, не будучи готовым к откровенному разговору.
– Хорошо. Понимаю, – уже спокойно говорила Мона. – Я тоже должна прийти в себя. У меня через десять минут приём. А вечером, часов в восемь… нет, в семь я буду ждать вас у себя дома.
– Но…
– Что вас беспокоит? Пропустите ужин? Обещаю вас накормить. – Она улыбалась. – Не знаете адреса? – Улыбка ещё шире, лукавая. – Думается мне, что знаете! До вечера, дорогой Глеб. Можно без отчеств? На западный манер? Отлично. Я – Мона. Вам же всё равно глупо произносить: Мона Яковлевна. – Она уже смеялась.
Надо ли говорить, что Глеб вышел из кабинета переполненный впечатлений. У него не могла уложиться в голове мысль, что дочерям Брюса, умершим в детстве и, видимо, воскресшим, триста лет! Не спрашивайте даму о её возрасте! Но расспросить нужно о многом. И она будет спрашивать… Что ей отвечать?
Он с трудом дождался вечера и, купив букет цветов, вино и конфеты, направился в гости. Вдруг «дамский угодник», всегда дремавший внутри Глеба, пробудился: «А если она не любит белые розы? А любит цвета слоновой кости или пурпурные. Вообще не любит розы? Вообще не любит цветов? Ведь в саду у неё их я не заметил. Триста лет! Все цветы мне надоели… “Да” и “нет” не говорите… Я бы вообще устал жить…»
…Мона ожидала его в своей машине на том «пятачке» перед крутым подъёмом.
– Оставьте здесь свою машину и пересядьте ко мне. Спасибо! Как ни странно – цветы я всё ещё люблю. Высаживать и ухаживать – нет, а когда дарят – очень! Только люблю больше белые лилии. Нет… наврала, я выращиваю крокусы! Они первыми появляются в начале апреля… благодаря животворящей росе!
Глеб не обратил внимания на последнюю фразу Моны, потому что был всецело занят беззастенчивым разглядыванием наряда женщины. Стиль начала двадцатого века. Паричок пепельного цвета, на нём широкая чёрная лента, низко повязанная на лбу и украшенная серебряным бисером и золотыми нитями. Шёлковое свободное платье, ниспадающее с оголённых плеч. На шее ожерелье из изумрудов. На руках, пальцах и запястьях тоже бриллианты, рубины, сапфиры…
«Чудачка… Хвастуша… Хотя всё это смотрится гармонично на ней, повседневно… привычно», – подумал Глеб.
Глеб галантно развёл в восхищении руками и поднял большие пальцы. «Чёрт! Она же графиня, любит и привыкла к иным формам высказывания мужского восторга».
– Да, Глеб, я люблю это время… Эти пятьдесят лет моей жизни – моей и моей сестры Даниэлы – были самыми счастливыми для нас.
– Извините… я опять… не понял… Какое время? – Глебу реально было и будет, наверное, ещё долго, трудно «въезжать» в «жизнь – эпохи».
– Скажем, с одна тысяча восемьсот девяностого до одна тысяча девятьсот сорокового. Чудесная мода: шляпы, шарфики, длинные мундштуки, перья, шелка. А какой взрыв новых талантов, новых идей, технологий… Проходите, пожалуйста. Вход в дом с обратной стороны. Она шла величественно-грациозно на высоких каблуках, ни разу не промахнувшись в щели брусчатки. У крылечка – два мраморных льва, отреставрированные. На груди скульптур такие же гербы, как на портсигарах. Родовые? Глеб показал пальцем на гербы и поднял вверх брови.
– Да, наш герб. И это наш дом. Мой и сестры. А был отца и маман. Мы перестроили этот замок в семидесятых девятнадцатого века. В нём подолгу никто не жил. Поэтому главная, парадная часть замка в запустении. А задняя, жилая, отстроена недавно в современном дизайне. Следуйте, пожалуйста, за мной.
Гость поднимался вслед за хозяйкой на высокое крыльцо. По пути он отметил не только пару красивых вазонов, украшающих вход в дом, но и пару прелестных женских голеней в ажурных чулках.
– Слева ванная комната, впереди – гостиная. Там и поужинаем. Не обессудьте, сегодня готовили на скорую руку, – сказала хозяйка виновато-очаровательным тоном.
Полет и Колет, не привыкшие к гостям, настороженно лаяли под столом, вытянув мордочки и пофыркивая.
Глеб Сергеевич зашёл умыть руки.
– Ого! – вскликнул Глеб. – Здорово! У вас в ванной комнате стилизация под «морское царство»: эти перламутровые морские раковины, аквариум и прочее.
Гигантский аквариум был размером с концертный рояль, который стоял в гостиной. Пастельные сочетания бледно-розового, мятно-зёленого, бежевого с небесно-голубым, малое освещение погружали в покой, безмолвное отдохновение.
– Вам нравится у меня? – Как же без кокетства может обойтись женщина-хозяйка, ждущая комплиментов!
– Вам бы позавидовал капитан Немо. Вы круче! – искренне выпалил гость.
– О! Жюль не раз говорил мне, что свой «Таинственный остров» он писал, думая обо мне! – Она вздёрнула носик.
Следует отдать должное двум вещам: первое – носик был, если честно, великоват, а второе – она явно рада редким, видимо, гостям и хотела произвести впечатление. И произвела! Глеб, как рыба шевеля губами, беззвучно и с совершенно идиотским выражением лица спросил:
– Верн? Жюль Верн, что ли?
– Да, конечно. Но мне не нравилось, что приключенческую романтику своих романов он нашёл в Парижской Коммуне одна тысяча восемьсот семьдесят первого года.
Она взглянула на Глеба и поняла, что взяла слишком бодрое «аллегро». Лицо её немного осунулось, глаза потухли. Она уже давно не говорила о себе с… современниками.
– Я сейчас накрою на стол. Всё уже в буфетной рядом.
А Всеволожский никак не мог вернуться в «здесь и сейчас» и беспардонно «пялился» на Мону.
– Пожалуйста, Глеб, не смотрите так… Я знаю, что в мои глаза смотреть трудно. Они насмотрелись за триста лет столько и такого… Вот лучше посмотрите пока альбомы с фото. Только спокойнее. – Она говорила голосом доброй няни.
Гость взял первый альбом, что лежал сверху. Ну как можно быть спокойным?! Попадались фотографии, ровесницы первых в истории этого изобретения. Но! Но Мона (или Даниэла) всегда примерно одного возраста, тридцати – тридцати пяти лет, здесь вот они вместе, и ясно, что они – близняшки! Вот кто-то из них с Ремарком, вот с Фрейдом!.. На обороте фото лишь даты: одна тысяча восемьсот девяносто шестой, одна тысяча девятьсот шестнадцатый,… одна тысяча девятьсот тридцать пятый… Вот сёстры (кто из них?) в белых халатах у хирургического стола. Сзади подпись: «Одна тысяча девятьсот пятнадцатый, Кёнигсберг».
– Прошу вас к столу. Давайте я налью вам полный бокал вина – вам необходимо расслабиться. И привыкать к мысли что я – фантом, но реальный.
Всеволожский залпом осушил бокал. Конечно, он отступил от протокола, но взглядом попросил ещё. Мона налила ему второй. Теперь он отпил половину. Речь к нему возвращалась. Понемногу.
– Я могу предложить блюда чешской, немецкой и французской кухонь. – Ей нравилось изображать хозяйку. – Пожалуйста: кнедлики с квашеной капустой и свининой, жареные сосиски с гарниром из картофеля и квашеной капусты, трюфели, сыры, багеты, круассаны, крем-брюле. А вот…
– Ради Бога, извините меня! Совершенно нет аппетита. – честно признался Глеб. – Я не в «своей тарелке».
– Хорошо. Понимаю. Давайте ужин перенесём на завтра.
– А я должен прийти завтра? Сюда?
– Нам ведь нужно о многом поговорить. Или вам не интересно?
– Что вы! Что вы!
– Правда, о многом – это я «загнула». Вряд ли смогу… Вряд ли захочу… Вряд ли вспомню… И я ведь вас должна расспросить! Но пока вы «неразговорчивый», давайте я расскажу свою историю. Кратко: и постараюсь последовательно. А вы пейте вино. Не стесняйтесь.
Итак, я и Даниэла – дочери-близнецы Якова Брюса. Те, что умерли детьми. Невозможно (я не помню толком себя и сестру лет до десяти-двенадцати), да и вряд ли следует при первом разговоре нагружать вас подробностями… Мы родились в одна тысяча семьсот девятом году. Имена у нас были другие, и вообще они часто менялись… В США я была Джессикой, а во в Франции Моникой… Сейчас мы – Мона и Даниэла. Так вот, в одна тысяча семьсот четырнадцатом году мы, говорят, умерли. Отец, имевший огромное мастерство в бальзамировании, нас не похоронил, забальзамировал и спрятал тайно на Финской даче. Преданный ему и очень толковый лекарь Иоганн наблюдал за нами. Да… нужно сказать, и знаю-то я многое от Иоганна и Людвига, его брата. Они – ученики отца в медицине и алхимии. Отец, конечно, …говорят они… приезжал и менял растворы, давал указания. Ученики, к сожалению, не смогли «дорасти» до вершин оккультного знания.
Далее Мона рассказала, что в одна тысяча семьсот двадцать восьмом году, похоронив маму, Яков Вилимович вернулся на Финский залив и провёл с дочерьми операцию оживления. Иоганн ассистировал ему, но подробных записей и документов об операции не осталось. Это странно. Хотя ведь приезжал ещё… Правда, он обещал Иоганну доработать свою методику и привезти… в крайнем случае передать дополнительные указания, уточнённые рецепты продления жизни… Для нас он оставил три карты, кое-какие записи, а позже нам передали книги, средства на жизнь… Большие средства на долгую жизнь. В записях отец предполагал, что его операция может обеспечить до ста пятидесяти лет жизни… Наверняка… а может, и до трёхсот. При соблюдении таких-то мероприятий и оздоровительных процедур. Извините, я сбиваюсь. – Пауза. – Ах, этот рассказ можно уместить в сотню романов.
Чтобы беседа протекала плодотворно и интересно, нужны доверительные отношения. Мона старалась это делать. Да и Глеб пытался. Пытался, но не мог в нужной мере. Он слушал внимательно, но не от первого лица! Да, есть карты, есть фотографии. Есть Ключи Совпадений! Но всё равно эта женщина для него – Таинственный остров! Ещё он вспомнил, что есть такое психическое отклонение (не заболевание!) у одного человека на миллион, когда этот субъект помнит события пятисотлетней давности. Подробно! Как правило, за другого какого-то персонажа, о ком он всё время думает. Флобер утверждал, что «мадам Бовари – это он сам». Персонификация, свойство писателей….
– Какое-то время Иоганн держал нас с сестрой на даче, потом (опять секретно!) по указанию отца нас вывезли (кажется, в одна тысяча семьсот тридцать четвёртом) в Австрию… или нет… в Пруссию? Да, в одна тысяча семьсот тридцать шестом мы жили в Пруссии.
Я хорошо помню дом и семью Иоганна. Жили в Бремене (это утверждает Даниэла), нас считали дальними родственницами Иоганна. Тогда всё было проще…– Она подбирала слово.
– Шифроваться. Так говорят мои студенты, – помог Глеб. – И был, и не был на лекциях.
Мона улыбнулась.
– Пусть шифроваться. В те годы нас и переправили из России легко. Отец воевал на Балтии – знал и местность, и людей здешних. Много друзей, верных, боевых… И не нужно было тогда ловчить с паспортами, шифровать «возраст». Это потом, в двадцатом веке… Но мы ведь с сестрой легко умеем отводить глаза, читать мысли, раздваиваться… Сейчас… – её лицо опять стало крайне тревожным, – что-то утратили. Три человека, кроме отца, знали, кто мы в действительности: Иоганн, племянник Александр Романович Брюс и кто-то из рода Гордонов, но кто – не установили.
Мона делала паузы в рассказе, вспоминая главное и стараясь это главное донести убедительней. По возможности.
– Следует знать, что отец, проделав с нами свои «волшебства», сделал так, что мы, дочери, будем проживать за десять лет (реальных!) всего один (примерно) год нашей жизни. Сейчас нам примерно триста лет. Это, видимо, предел… Очень скоро мы должны умереть.
Она отвернулась, взяла бокал с вином, отошла к окну, выкурила сигарету и вернулась.
– Иоганн умер в одна тысяча семьсот пятьдесят восьмом. Его брат Людвиг в эти годы жил и работал уже во Франции. Он забрал нас к себе. Во Франции Людвига очень ценили как врача, и круг его пациентов простирался до двора их величеств. Людвиг познакомился с Сен-Жерменом, познакомил и нас с сестрой…
– Ого! – привскочил Глеб. – Это гениальный алхимик и авантюрист? Тот? Его потом призвали в Учителя, в … Шамбалу?!
– Тот.
– Чтобы вас слушать и не свихнуться, нужно выпивать и… иронизировать.
– Сен-Жермен – важный, влиятельный и загадочный граф – обратил внимание на наши с сестрой способности отводить глаза и прочее. Дядюшка Людвиг заболел и вскоре умер. Теперь Сен-Жермен взял нас на содержание. Я не имею в виду денежные средства (мы, хоть и скрывали это, были богаты), а … этот Сен-Жермен, будучи посвящённым (или предпосвящённым), был ещё и растлителем юных прелестниц, таких как мы. Он всё изучал. Укладывал нас с собой в кровать и играл с нами. Он говорил: чтобы познать всё, нужно открыть все запертые и запретные врата. И мы открывали и получали неизъяснимое удовольствие и истинное блаженство. Я имею в виду не только «постель». У него была идея «Матери мира».
Интересовали его женщины особенные, наделённые страстью и силой. Когда он рассказывал нам о его встречах с Марией Стюарт, а затем с Екатериной Второй… Что опять с вами? Да, это я… увлеклась. Потом, позже о них… Так вот, после близкого общения с графом мы стали буквально читать мысли людей! Особенно мужчин. Их желания. Научились манипулировать людьми, особенно мужчинами. Особенно Даниэла. Нет, нет, мы не использовали свой Дар в корыстных целях. Нет! Наоборот, бедняжка Даниэла прожила в вечной влюбчивости и в вечной зависимости. Наивность! Считает, что нас спасёт Любовь. Та Любовь, что сильнее Смерти. У меня оказалось по-другому… И у нас нет… детей. Не может быть…
Она сделала длинную паузу, о чем-то вспоминая. «Ясно, о чём думает. – Глеб отметил мысленно. – Романы «Мужчины в её жизни».
– Мне похвастать нечем. – Мона тоже читала мысли Глеба. – Настоящей страсти и любви… наперечёт пальцев… За триста-то лет! А сейчас жалею. Слава Богу, хоть куртизанкой была честной. Не только любовницей – и другом, и матерью, и сестрой. А дочерью – нет. – Голос вновь задрожал, затем стал гулким. Уже не здешний, а эхо.
«Эхо времени», – красиво подумал Глеб, и попытался успокоить женщину.
– Куртизанки Венеции остались в истории как самые изысканные, образованные и умелые из женщин.
– Да… Устала… Давайте зажжём свечи, много свечей, послушаем Грига или… Шопена… Что предпочитаете?
– Ноктюрны Шопена… Время-то уже… – ответил Глеб Сергеевич.
– Да, я понимаю. Устали. У меня только пара вопросов. Первый: откуда у вас карты? – Она начала напряжённо вглядываться в лицо Глеба.
– Мне их дал Джеймс Гордон. Они от… вашего… папеньки передавались в его роду.
– Понимаю. Почему он не приехал на встречу со мной сам? Почему поручил это непростое дело вам?
– Он – инвалид, а я его… близкий… коллега и товарищ…
Глеб не должен был ничего рассказывать о клубе.
– Нет, не то. Недоговариваете, – обиделась Мона.
– Да, не имею пока права. Ах, да! Я ведь ваш дальний родственник. Об этом больше знает, быть может, мой дядя, Алекс Яковлевич Юсов. Я говорю это… так… потому что я ещё не осознал этого. Честно, о том, что я и дядя – родственники Якова Вилимовича Брюса, я узнал четыре дня назад. От Джеймса. И о вашем существовании. Но то, что вы и Даниэла – дочери Брюса, не знает ни Джеймс, ни, думаю, дядя. Я с ним не говорил. Он живёт в Петербурге. Джеймс – его приятель, и он, узнав случайно, что я еду на курорт в Карловы Вары, рассказал о вашем тревожном звонке ему. Дал карты, доверил… А почему вы с сестрой прежде не искали каналы, встречи…?
– Да потому, что резко хуже нам стало лет пятнадцать назад. А до этого не хотелось, чтобы наш секрет был раскрыт. Кроме того, если уже совсем честно, жить более и не хотелось. Что ещё может преподнести жизнь? Всё было! Но когда на моих глазах у Даниэлы начали выпадать волосы, портиться зубы, дрябнуть кожа, тускнеть взор… Я ужаснулась, пожалев её, а она меня… Хочу жить!