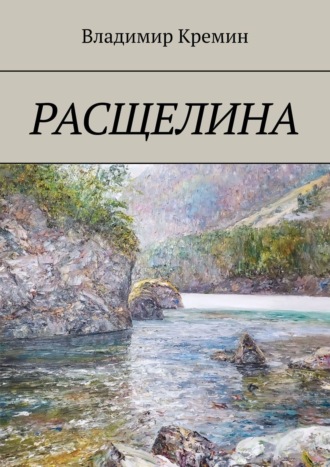
Полная версия
Расщелина
Все расспросы людей сводились к пустым ссылкам на несуществующих или впервые слышащих о золоте, свидетелях и очевидцах. Может и разносилась, хвастовства ради, по округе молва, только вот и не верить в «были или небыли» Крутояров не мог. Дело предстояло начинать с нуля и к этому Гордей был готов. Фактом оставалось то, и в этом он был глубоко убежден, что кроме него никто доселе не предпринимал, более или менее серьезных попыток, пробиваться с подобными изысканиями в глубь дремучей тайги, рискуя попросту сгинуть – безвестно пропасть для потомков или последователей. Хотя на южном Урале были золотодобытчики, имевшие значимый успех и продолжающие поиск, но было в том не мало даже мистического, что хоть и пугало, но навевало своей тайной, еще больший интерес. Об этом неведомом, Гордей узнавал от Ивана, сведущего в вопросах освоения природных запасов Урала и Сибири.
С мужиками обозниками, что сопровождали Крутоярова в предпринятых им исследованиях, он своими замыслами не делился. Рассказывал лишь про новые пути и тропы, которые якобы нужны были для караванов с пушниной и рыбой – этим и прикрывался, осторожничая и не желая, чтобы добрые начинания раньше времени слухами обрастали. Таежники верили своему хозяину. Кому, как не ему, не раз выручавшему их из беды, открытому и бесхитростному человеку, доверять: «Но не пришла еще пора; знать им всю правду», – так считал хозяин.
Глава вторая
Исповедь
Несмотря на внешнюю невзрачность полуразвалившегося дома, внутри обнаружился полный порядок. По всему чувствовалось присутствие женских, трудолюбивых рук. Однако он был явно запущен по мужской части. Дом включал в себя две комнаты и небольшую прихожую, в которую и вошел из холодных сеней гость. Она же служила и кухней. Неуклюже сработанная печь, выглядела старой; сложенная из неровного, бывшего в употреблении кирпича, она была прибрана и, по-утреннему, проворно лучила теплом. Справа, напротив мутного окна, выходившего на чумазую улицу, качаясь и скрипя, стоял квадратный, по халтуре сделанный стол. Он был аккуратно покрыт светлой и чистой скатертью. Это сразу же приметил захожий гость. Стол был пуст, поэтому ничто не помешало ему водрузить на середину емкую, квадратную бутыль, приятно резанувшую по глазам не проспавшегося Сидора. Она поражала своей новизной и прозрачностью. «Заезжий товар. Не самогон местного разлива», – вывел для себя хозяин. Он плотно прикрыл дверь, предложив гостю пройти.
Раннее утро едва – едва успело развеять предрассветную синь, а валившаяся с ног от усталости и недосыпания Анна, уже торопилась домой. В эти часы она ежедневно заканчивала уборку в ночном, питейном заведении своего «барина», так его называл дядька, который зачастую выворачивал свои латаные карманы именно там. Хотя простой люд, допоздна засиживавшийся в трактире купца Крутоярова, расходился далеко за полночь, заведение после ухода или выноса последнего, бесчувственного тела, требовало новой свежести и усердия старательных рук, способных вернуть ему прежний уют. До самого рассвета проворная Анна наводила порядок в помещении, которое днем было закрыто, а под вечер с новой силой поглощало во чреве всех, кто не мог пройти мимо яркой вывески на дверях: Питейное заведение – «У Гордея». За день Анна успевала отоспаться и к вечеру вновь занимала свое место.
На этот раз, она немного задержалась в пути; заскочила в пекарню, где ее всегда с улыбкой встречал озабоченный делами хозяин. Прихватив пару буханок душистого, теплого хлеба, Анна спешила домой. А когда наконец отворила чуть скрипнувшую дверь прихожей, то ее взору явилась та же картина, что была на службе.
Сидор, уже изрядно охмелевший, что-то настойчиво доказывал незнакомому мужчине средних лет, по-свойски уложив обвисшую правую руку на плече гостя. Тот, по-приятельски, не возражал, что заметно насторожило Анну. Хозяйка остановилась у двери. Разговор тут же прекратился. Сидор немного побаивался племяшки, но любил и не обижал ее, однако скорее из страха быть выгнанным на улицу, нежели из человеческого уважения к ее непосильному труду. Жил в полном согласии с хозяйкой, которая терпела его только лишь из родственных соображений; однако делать он, ничего не делал – спал, ел, да глаза мозолил. При случае даже пил, но знал; с племяшкой не забалуешь. Какой-либо дружбы с местными мужиками из трактира, он не водил. Был один друг – Василий Рагозин, который своим свирепым и неудержимым нравом ничем не уступал новоявленному гостю, но вот качеств вожака крайне необходимых в части того, чтобы возглавить дело и повести за собой влекомого Сидора, у него не было. Другое дело Шершень; он оставлял впечатление в меру выдержанного и всегда внешне спокойного человека. Так что по его узкому разрезу глаз, было трудно определить; грянет гром, разразится ли буря или всего невероятней – изольется скупая похвала, порой необходимая его подельникам в столь рискованных зигзагах судьбы. Однако жалил Шершень больно…
Его проницательный ум прежде часто выручал их. Сидор отлично помнил; из каких сложных положений выпутывалась банда, умело маскируясь, укрываясь и уходя от неминуемой расплаты. И только он знал, каким бывает Шершень в минуты гнева, когда на его пути возникала любого рода помеха. Сидор помнил все. Он служил ему раньше и теперь будет служить, потому как общая у них тропа; с нее не сойти. «Только вот Анна о таком прошлом ничего не знает. Не ее ума это дело. Пусть живет своей жизнью и в его дела не лезет», – считал Сидор.
А сейчас, когда рядом вновь появился вожак, за которым как за стеной, он мог просто на всех махнуть рукой. Сидор знал; теперь не пропадешь, чтобы не ждало их впереди. И оба, под жаром хмельного дурмана, предавались откровенным воспоминаниям былого, хрупкого бандитского братства, примитивным законам которого был подчинен весь их внутренний мир.
Анна редко могла вспылить; обычно она была сдержанна, да и воспитывать Сидора отнюдь не отвечало ее интересам. Знала, что он такой, какой есть. Чисто из жалости, в память об отце, терпела и позволяла находиться с ней под одной крышей. Сидор не обижал ее, хотя порой бывал навеселе. Однако, Василий, с которым чаще всего из дружков он встречался, случалось, вел себя по-хамски. От того однажды и схлопотал от Анны, увесистой, чугунной сковородой. Подействовало – перестал ее донимать. Сидор не раз просил его; не задирать племяшку, но знал, что в душе у приятеля сидит заноза и когда-нибудь она может больно уколоть Анну. Та хоть девка и не промах, но все же это девка…
Войдя в комнату, Анна сразу ощутила на себе неприятный, изучающе – колкий взгляд гостя, вальяжно сидевшего за столом. Их глаза встретились и какое-то время оставались неподвижными, словно исследуя друг друга, оценивая полноту искренности и долю, упрятанной в их глубинах, неприязни. Сила взгляда решает многое. Анна первая отвела глаза, почувствовав на себе тревожное любопытство, исходившее от незнакомца. Она прошла в комнату, неловко ощущая на своем теле колющее любопытство нежданного гостя. Это был не тот человек, с которым она могла бы пошутить или затейливо, как на службе, кокетничать на глазах у других. Этот человек внушал тревогу…
Двери в комнату, где обычно отдыхала Анна, не было. Проем был прикрыт плотной, шерстяной занавесью и все, что происходило на кухне, за столом, волей-неволей, улавливал ее слух. Однако сейчас, Анну валило с ног от усталости и хотелось спать, а не слушать пьяный, невразумительный бред, доносившийся из соседней комнаты.
С утра в ремесленном училище занятий не было, лишь после обеда Павел должен был явиться на практику. Поэтому все ранние часы он посвятил матери, которая следила за его умением и проворством, дивясь и радуясь за сына. Ее усталые, больные глаза слезились и полнились счастьем, которое жило в сердце, не выходя наружу, где их окружал тусклый серый мир болезни, нищеты и тревоги, где жила боль, без надежды на лучшее. И все же, мать радовалась за сына: «Пусть у него все будет лучше и светлее, без уныния и тревоги; так правильнее, – молила она своих Богов. – В его жизни должно быть больше справедливости, чем зла и насилия».
То и дело, прерывая мысли, она вновь возвращалась к разговору с сыном, который утешал и вдохновлял ее. Всей душой Варвара любила своего единственного, еще юного помощника, который делал все возможное, чтобы защитить мать от злого и лютого отца. Он был ее надеждой на спасение, в которое уже слабо верилось. А Василий не уходил от них; не входило это в его планы. В трудные минуты непонимания Варвара умоляла мужа, оставить их в покое. Но он упрямо держался рядом, словно ожидая некий случай, способный посодействовать его корыстным планам, чего никак не мог понять Павел.
Сегодняшней ночью привиделся Варваре недобрый, тревожный сон; будто мать ее покойная «с того света» пришла. Явила себя, да в аккурат перед постелью дочери встала. И словно не сон то был и тем более не явь, а нечто с видением схожее; образ плывущий, не ясный, призрачный. И сказала матушка лишь несколько слов, тягостных, но ясных как день: «Поспей! Повинись, поведай хранимое и благое, не таись более…» – с тем и вышла вестница, не колыхнув легких занавесей за собой. А на утро, все думалось Варваре; как же это сыну тяжело будет без нее. Уверовала она в вещий сон, будто знала, чего ждать. И когда Павел подошел к ее кровати, чтобы утешить и попрощаться, отправляясь в ремесленное, она тихим и слегка взволнованным голосом попросила выслушать ее, сославшись на то, что другого времени должно не будет.
– Присядь Павлуша, – обратилась она к сыну, – не хлопочи так, не рви себя. Благие труды твои, только вот пустые и напрасные. Василий небось пропился; вот-вот явится, – предчувствовала недоброе Варвара.
– Да ладно, мама, я ведь так; чтобы тебе спокойнее было. Уже весна и мы с Сергеем Николаевичем скоро перевезем тебя в специальную клинику. Вот только снег сойдет, да дороги наладятся. А там подлечат тебя, оно и от отца подальше.
– Хороший ты, добрый; весь в бабушку. Та сердцем жила, как и ты. Всегда таким оставайся; душу слушай, а если случится, то она перед тобой откроется, все поведает, убережет и излечит. Отца своего, сторонись – бойся; недобрый это человек, не дрогнет у него рука ни на кого. Дастся и тебя он в покое не оставит, своего добьется. Убереги себя.
Павел с тревогой вглядывался в усталые глаза матери, сосредоточенные на внутренней, невысказанной до конца, боли.
– Матушка Мария, ты помнишь ее, приходила сегодняшней ночью к постели. Должно быть за мной…
Павел с удивлением посмотрел на мать.
– Выслушай меня внимательно; сейчас я расскажу тебе то, что ты обязательно должен запомнить и пообещать, что наш разговор останется в тайне. Пришло время, когда я должна исполнить волю бабушки. Она знала тебя еще совсем маленьким, а мне завещала передать то, что было известно и пережито ей.
Из ранних рассказов матери, Павел знал лишь то, что бабушка прожила трудную и праведную жизнь, которая была по праву дарована ей волею небес. Когда Варвара была еще совсем девчонкой, бабушка Мария жила в опустевшем к тем временам поселении, близь Томильской балки, которая тянула жуть своего мрака далеко вглубь глухой и нехоженой тайги. Красивые и удивительные места, куда редко даже охотники стремились, несмотря на их неутомимый дух и суровые нравы; не ладилось там что-то с их нелегким и опасным промыслом, будто кто и вредил даже. Поговаривали, сам Леший те трудные места стороной обходит. Уж ему ли глухомани бояться. Сказывали – жуть одна, а не лес. И кара того постигает, кто любопытства ради, вдруг, да и сделает шаг в ту сторону. Когда-то и там жили… Но поредел люд, уходить стал. Глухая тайга село окружала. Единственное благо то и было – кедрач. Богатый кедрач и деревья те, звоном полнились, не чета иным. Лохматы да шишками богаты; мимо не пройти. Вот и манил лес собою, привлекая орехом чудодейственным.
Тайга она с разбором; кто с поклоном к ней шел, тому и далее путь искомый казала, орехом да добром сумы полнила, а иных уводила туда, где болота и топи, что в осень голыми и мертвыми лиственными стволами в небо скалят. Тропы там опасные, сплошь кухтой забиты. А поляны, полны грибов, что срок перестояв, неосторожного путника на колени ставят.
Совсем неподалеку от хутора был тот кедрач; пусть не большой, но людям да зверью хватало с остатком. Однажды, в тайге случился пожар. Сильный огонь поверху пошел, а гонимым ветром пламенем, слизнуло и кедрач, оставив после себя лишь одинокие скелеты некогда разлапистых стволов, устремивших невинные, безжизненные ветви к небу, словно моля вернуть жизнь. Досталось и таежному поселению, прижатому одним боком к самому лесу. Огонь бы и далее пошел; людская изба, она пуще иных сосен пылает. Только вот Бог не велел; сильным дождем лес накрыло, ни дымка не осталось. С того самого пожара людям и на хуторе трудней стало жить, а время, ступая безжалостной поступью, вскоре разогнало и тех, кто духом ослаб, да без веры жил. Почитай несколько пар старообрядческих дворов и осталось. Староверы работы не гнушались, особо которая для себя. Ведь и бежали то они от податей да оброков помещичьих, подалее от власти и царя, ища новой правильной жизни. А те их всех в бунтари отписать норовили. На Руси испокон веков; все-то на власть горбатить потребно, а что до себя касаемо, то обождет. Вот и взялись мужики дворы погорелые ворошить, да новые избы строить. А Василий не особо трудолюбив оказался. Тогда и подались родители Павла в уездный городок; с малым дитем в суровой тайге одна тягость, а не жизнь.
Только это, до сего времени, и знал Павел. Многого ему мать не рассказывала. Умерла бабушка Мария, когда ему три года исполнилось. И сейчас, слушая рассказ матери, он не мог понять и уяснить для себя; что же должен он непременно сейчас узнать, если она всю свою жизнь молчала, не посвящая его в семейные секреты. Ему казалось, что мать была всегда откровенна, делилась наболевшим именно с ним и не утаивала ничего, что могло бы хоть как-то вызвать его интерес. Однако сейчас он замечал, что она была явно чем-то встревожена.
– Запомни Павел, – продолжала Варвара. – Я хранила эту тайну столько, сколько могла. И отцу твоему, который уже на протяжении многих лет, добивается от меня признания, наверняка кое-что известно, но ему не ведомо главное. Поэтому старайся хранить эти секреты от Василия – он зверь и будет преследовать тебя, даже после моей смерти; не отступится и не оставит в покое. Опасайся его, сынок. Волю матери я не могу не исполнить; унести эту тайну с собой и остаться безучастной к ее судьбе и выбору. Теперь это станет твоим…
Варвара взволнованно перевела дыхание, словно некая невидимая сила мешала ей открыться. Будто подвергала она силою признания, своего единственного сына, великой и неотвратимой опасности.
Возникшая в повествовании пауза, ввергла Павла в тревожную задумчивость. Однако пронеслась так быстро, что он едва успел справиться с охватившим его предчувствием. Варвара продолжала:
– Однажды осенью в тайге, твоя бабушка чудом спаслась от неминуемой гибели. Именно тогда, небо по стечению трагических обстоятельств, открыло ей тайну, которая живет и поныне. На то была воля провидения. Дарованные Марии секреты, она обязана была хранить и нести по жизни. Прости, что я так мало рассказывала тебе о ней; на то были свои причины. Ты уже вырос, почти мужчина; теперь тебе оберегать ее тайну. Этими секретами ты вправе распорядиться как велит совесть, но помни одно; они не должны попасть в руки твоего отца. Открывшиеся ей знания – опасны; как, по сути, так и влиянию своему. Позже ты поймешь, почему я так говорю.
Внимательно вслушиваясь в повествования матери, Павел не мог поверить в неотвратимую возможность стать единственным, знающим нечто такое; ради чего предстоит изменить и переделать всю свою жизнь, возможно даже сам ее смысл: «Почему мать решила поделиться столь сокровенной и опасной тайной именно с ним? Зачем ему знать об этом? Отчего она чуть ли не прощается? А как же он? Как, вообще, возможна жизнь без матери? Он не хочет, не желает и не позволит ей оставить его одного. Кто он, что он значит и что может? Ведь ради нее он жил, веря в доброту и справедливость, надеясь, что они вновь станут счастливы и будут жить без страданий, без боли и тревоги, без отца», – задавал себе вопросы обеспокоенный Павел. Однако на протяжении рассказа он терпеливо слушал, давая матери возможность сообщить главное.
Тяжело дыша, Варвара продолжала:
– Дорогу на заброшенный хутор ты знаешь; к нему три дня пути будет. Сейчас там, наверняка, никто не живет. Верст двадцать западнее, среди просторов тайги, есть выступающий скалою холм, в ясную погоду его видно с хутора. Это перед ручьями, что у Томильской балки. Если подняться на холм; вся лесная даль взору откроется. Ты там не был – это красиво… Мария любила тайгу и много рассказывала о ней. С некой невысказанной печалью, ее манило и стремило в не торенную глубь лесов на зов, всегда влекущий с особой силой. На том холме она и умерла. Совсем одна, по неведомой никому причине. Там ее нашли и, там же, похоронили. Просьбу мою дед Захарий помог исполнить. Он в скором времени почти один и остался на хуторе. К старообрядцам должно прибился, а то может и с ними убрел; те подолгу на одном месте не селились. Все то их от властей несло куда подалее. Сам то Захарий, как и все мужичье лесное; бородат, да силен был. От лопаты, иной раз, до темна не было мочи оторвать; словно прирос или в обнимку с ней родился. Таких старцев-бородачей всегда любила тайга; за ум природный, за упорство и веру, что в душе хранили и с иным людом, который слабей от жизни, делились, не таились в себе. Сжился Захарий с ними накрепко; многое постигая сам и разуму малых деток обучая, что голубизной любящих глаз, в его пышную бороду тыкались. Млел и улыбался старик тогда: «Знать и она не зря взращена – сгодилась…» Случалось, по темну уж, пробудится Захарий, выйдет махру покурить и загрустит вместе с тайгой, а она ночами стонет, старые раны лечит. Чувствовал старик эту боль, вот и не мог позволить ей грустить в одиночестве…
Варвара закашлялась, прикрыв рот платком. Затем, вдумчиво, вновь погрузилась в тревожные воспоминания былого:
– Деда твоего к тому времени, уже давно в живых не было. Силантием его звали. Угодил он по несчастью в рекруты, так с Русско-Японской войны и не воротился. Мужики деревенские, да охотники промысловики, кто похитрее оказался, те из поселка побежали кто куда; было где укрыться, когда приставы судебные с урядниками заявились. А отец мой никогда из страха от присяги Отечеству не бегал. Оно и по жизни, всегда навстречу, напролом норовил… За то, мужицкое и любила его Мария, души в нем не чаяла. А меня малую, все на себе носил, словно мне и ходить без надобности. Сгинул он в тех дальних приморских краях, домой не воротился. Долго мы ту боль вместе переживали, не верили; ведь всякое по тем тревожным временам бывало; случалось и из плена самурайского возвращались люди. Однако не стало Силантия…
Мария была женщина гордая и работящая, все в свои руки взяла; и дом, и какое-никакое хозяйство. А больше мы все, одно тайгой кормились. Тяжело и трудно было бабе одинокой, молодой да шибко красивой. Мужики донимать стали, не без этого. Даже вон, Захарий, на что уж положительный да ответственный, не то, что иная братия, и тот не вынес одиночества Марии. Пропадает баба, считал, спасать ее надо… Стал подступать со своим предложением; уж ему то отказать было почти невозможно. Любили его все; за душу, что любым ветрам наперекор, за сердце доброе, какое поискать. Ну и за прочее, важное для мужчины делового да настоящего.
Получил и Захарий – от ворот поворот… Не смог одолеть силу ее характера и редкой преданности, что жила в этой святой женщине. Не дано было ему знать глубокой раны, что в недрах женской души таилась. Принял и отступился, без обиды и упрека, потому как любил, а выбор ее уважал еще больше. После того уж более никто не донимал; в покое бабу оставили.
Слушал Павел и дивился; как, однако, духовно богато жилось людям в той таежной глуши, в том далеком прошлом. Ему еще только предстоит постичь и осмыслить меру праведности их поступков и не судить, а суметь принять как свершившееся. Однако сейчас, его больше интересовал, увлекал и тревожил рассказ матери:
– Все-то Захарий помнил, потому как к Марии всегда с уважением и любовью относился. А на выданье, когда меня за Василия замуж отдавали, вместо отца на свадьбе гулял. И слова говорил такие, что даже Мария, из благодарности, сердечно расцеловала его за уважение и память, какую он в сердце к своему другу хранил, о дочери его любимой помнил, и участлив к ее судьбе остался. Ни матушка, ни Захарий, не смогли тогда в Василии некую «слякоть души» разглядеть. Отец бы сразу в нем зверя в человечьем обличии узрел, а вот мы с мамкой – нет, не усмотрели… Когда я в девках ходила, Василий проходу не давал. От войны в лес сбежал, а жениться – тут как тут… Заезжий он был, все с охотниками водился и был без роду, без племени; сиротой себя выдавал, а за прошлое его особо никто и не справлялся. Так до сего и не знаю; от каких людей его род ведется. Приблудный – одно слово. Но молодость, она глазами любит; своего ума нет, вот и в других не видит. В скором ты родился. Так вот и жили; с любовью ли, с рассудком; на взгляд – ладно…
До поры, пока мамка в тайге не пропала. Она уж к тому времени настоящим охотником да травником стала; интерес имела и преуспела в том деле с лихом. Все знала; какая трава в пользу, а какая во вред здоровью. И откуда только знания черпала; никто не учил, да и тайга вкруг глухая; должно она и учительствовала. Кто здесь, кроме звезд поднебесных да природы матушки, сокрытым да сокровенным умением, поделится? А она знала; и как с хворобой управиться, и зло от невинной доброй души отвести. С тем и жила…
Сгинула однажды Мария в лесу и домой не воротилась. Как я билась и плакала, но плутать по тайге, проку мало. Были люди, искали след, но увы; все ни с чем и возвращались. Захарий, бывалый охотник, самолично уходил, пропадая неделями в глуши. Возвращался хмурый и усталый. Дожди шли без устали тогда, в тайге гнус, да сырость – следов никаких… Поплакала я, порыдала да деваться некуда. Тогда нас двое сирот и образовалось. Только вот Василия с той поры словно подменили; другим стал. Хозяином себя возомнил; никто ему не указ… Зло в душе взрастил, а то может и былое пробудил. Вот с тех пор, по сей день, и лютует. Только вот не о том я сейчас, сынок…
Я знаю, ты смог бы отыскать то место, но это всего лишь начало пути. Далее уж тебе самому решать, а я, по долгу своему, остеречь тебя должна. Если доведется быть там, найдешь могилу Марии, поклонись ей – это бабушка твоя. Она тебе, на этом холме, гостинец оставила; лишь я об этом знаю. Говорить о том хоть и рано, но не сказать тоже нельзя. Однако, все по порядку. Запомни одно; это хранится под валуном, слева от могилы. Так вот, если ее не порушил зверь, тебе нужно будет встать к изголовью и крест, если он сохранился, укажет направление. На холме нужно заночевать, не разводя костра, а ранним утром, когда тайгу накроет густой туман, жди пока он не рассеется. Когда же сойдет последняя дымка и окрестности станут просматриваться, то в указанном направлении ты увидишь неподвижное, слабое облачко оставшегося тумана. Вот почему не следует разводить костер; дым может сбить с толку и увести в ложном направлении, а это опасно. Тайга должна быть прозрачной… Туда будет очень трудно добраться. Над этим странным местом туман держится дольше обычного, иной раз и вовсе не сходит. Это тепло крутого утеса, дыхание Расщелины…
Помни одно; лишь следуя в указанном направлении можно достичь того крутого утеса. Всюду места гиблые, да зверье опасное, людьми непуганое. Сам леший тех мест сторонится, а к нему отнесись с уважением, не то путать станет; обратно не выйдешь, ни к чему такой риск… Там, у одинокой дикой реки, стоит утес, где вся эта история начиналась. Да лучше бы уж ее не было. И тут, Павел, тебе решать; захочешь ли ты те секреты, какими Мария обладала, принять и хранить по жизни в тайне, или отвергнув, воротишься с того утеса к жизни мирской и забудешь навсегда, что видел и знал. Твое право; вытравить напрочь из души все, о чем я тебе говорила и от чего предостерегала или сохранить для жизни те знания. Но бабушкино наследство; два больших самородка – тебе, стало быть, по роду полагаются. Это и есть гостинец. Золото то без греха, и ты должен принять его от Марии с благодарностью. Оно принадлежит только тебе, по праву наследника.
На горе той издревле растет сахарная сосна, лакомое место медведей. Духи сосны и утеса едины; они парят над Расщелиной в образе тумана. Долгое пребывание на нем опасно; ты конечно можешь, как те же медведи, излечиться телом и духом, однако рискуешь при том поплатиться жизнью за любой неловкий умысел. Корыстные и алчные устремления обладать сокрытым, земным богатством Расщелины, караются духом утеса и кара та неминуема… Это силы и воля природного характера и если ты окажешься не в ладу с собственным духом, то лучше туда не ходи, а довольствуйся тем, что завещала Мария. Чисты ли намерения и помыслы оказавшегося там человека, или страсть наживы гложет и одолевает его – конец один… И даже случай, невольно открывший ее врата, будет не прощен волею небес и духами Расщелины. Этому нет ответа…





