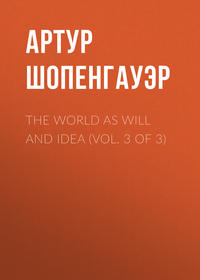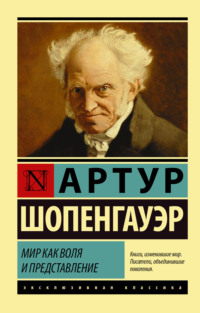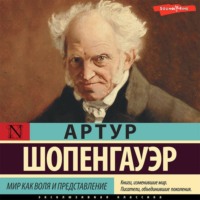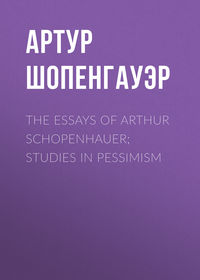Полная версия
Мир как воля и представление. Том 2
Кто описанным выше образом настолько погрузился в созерцание природы, настолько забылся в нем, что остается только чистым познающим субъектом, тот непосредственно сознает, что в качестве такового он есть условие, т. е. носитель мира и всего объективного бытия, так как последнее является ему тогда зависящим от его собственного существования. Он, следовательно, вбирает в себя природу, так что чувствует ее лишь как акциденцию своего существа. В этом смысле говорит Байрон:
Не есть ли горы, волны, небо – частьМеня, моей души, и я не часть ли их?7Но как же тот, кто это чувствует, может считать себя, в противоположность непреходящей природе, абсолютно преходящим? Нет, скорее его охватывает то сознание, о котором говорит Упанишад Веды: «Я есмь все эти творения в совокупности, и кроме меня нет ничего» (Oupnek’hat, I, 122) {Сюда относится 30 гл. II тома.}.
§ 35
Чтобы глубже проникнуть в сущность мира, надо непременно научиться различать волю как вещь в себе от ее адекватной объектности, а затем различать отдельные ступени, на которых она выступает более отчетливо и полно, т. е. самые идеи, – от простого явления идей в формах закона основания, этого ограниченного способа познания, присущего индивидам. Тогда мы согласимся с Платоном, который приписывает подлинное бытие только идеям, за вещами же в пространстве и времени, этом для индивида реальном мире, признает лишь призрачное существование, похожее на сон. Тогда мы увидим, как одна и та же идея раскрывается в таком множестве явлений и обнаруживает познающим индивидам свое существо только по частям, одну сторону за другой. Тогда мы и самую идею отличим от того способа, каким ее явление становится доступным наблюдению индивида, и идею мы признаем существенным, а способ этот – несущественным. Рассмотрим это на примерах, сначала в малом, а потом – в великом.
Когда проносятся облака, фигуры, которые они образуют, для них несущественны, безразличны; но то, что это – упругие пары, которые дуновение ветра сгущает, уносит, растягивает, разрывает, – в этом их природа, сущность объективирующихся в них сил, их идея; каждая же фигура существует только для индивидуального наблюдателя. – Для ручья, сбегающего по камням, безразличны и несущественны водовороты, волны, пена, которые он образует; но то, что он повинуется тяготению и является неупругой, всецело подвижной, бесформенной, прозрачной жидкостью, – в этом, если познавать наглядно, его идея; названные же образования ручья существуют только для нас, пока мы познаем как индивиды. – Лед на оконном стекле осаждается по законам кристаллизации, которые раскрывают сущность являющейся здесь силы природы, выражают идею; но деревья и цветы, которые он при этом образует, несущественны и существуют только для нас.
То, что является в облаках, ручье и кристалле, это – самый слабый отзвук воли, которая полнее выступает в растении, еще полнее в животном и наиболее полно в человеке. Но только существенное всех этих ступеней ее объективации составляет идею; развитие же идеи, в силу которого она, в формах закона основания, развертывается в разнообразных и многосторонних явлениях – это несущественно для идеи, обусловлено только способом познания индивида и имеет реальность лишь для него. То же самое необходимо относится и к развитию той идеи, которая представляет собой самую полную объектность воли; следовательно, история человечества, поток событий, смена эпох, многообразные формы человеческой жизни в разные века и в разных странах – все это лишь случайная форма явления идеи и принадлежит не ей самой, содержащей исключительно адекватную объектность воли, а только явлению, которое попадает в сферу познания индивида, все это для самой идеи так же чуждо, несущественно и безразлично, как для облаков – их фигуры, для ручья – форма его струй и пены, для льда – его деревья и цветы.
Кто хорошо это понял и умеет отличать волю от идеи, а идею от ее явления, для того мировые события будут иметь значение не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они – буквы, по которым может быть прочитана идея человека. Он не будет думать вместе с людьми, что время действительно приносит нечто новое и значительное, что с помощью времени или в нем осуществляется нечто безусловно реальное, или же само время как целое имеет начало и конец, план и развитие, и своей конечной целью ставит полное усовершенствование (согласно своим понятиям) последнего поколения, живущего тридцать лет. И поэтому он не призовет вместе с Гомером целого Олимпа богов для направления временных событий8, как не признает вместе с Оссианом фигур облаков за индивидуальные существа; ибо, как я сказал, и те, и другие имеют одинаковое значение по отношению к являющейся в них идее. В разнообразных формах человеческой жизни и беспрерывной смене событий он увидит постоянное и существенное только в идее, в которой воля к жизни находит свою самую совершенную объектность и которая показывает свои различные стороны в свойствах, страстях, заблуждениях и достоинствах человеческого рода, – в своекорыстии, ненависти, любви, робости, отваге, легкомыслии, тупости, лукавстве, остроумии, гениальности и т. п.; все это, соединяясь и отлагаясь в тысячах разнородных образов (индивидов), беспрерывно создает великую и малую историю мира, причем по существу безразлично, что приводит все это в движение – орехи или венцы. Он найдет, наконец, что мир похож на драмы Гоцци, где постоянно являются одни и те же лица, с одинаковыми замыслами и одинаковой судьбой; конечно, мотивы и события в каждой пьесе другие, но дух событий один и тот же, действующие лица одной пьесы ничего не знают о событиях в другой, хотя сами участвовали в ней; вот почему после всех опытов прежних пьес Панталоне не стал проворнее или щедрее, Тарталия – совестливее, Бригелла – смелее и Коломбина – скромнее.
Если бы нам дано было когда-нибудь ясными очами проникнуть в царство возможного и обозреть все цепи причин и действий, если бы явился дух земли и показал нам образы прекраснейших личностей, просветителей мира и героев, которых случай погубил до начала их подвигов; если бы он показал затем великие события, которые изменили бы мировую историю и повлекли бы за собою периоды высшей культуры и просвещения, но которые при своем зарождении были заглушены какой-нибудь слепой случайностью, ничтожнейшим происшествием; если бы, наконец, он показал нам замечательные силы великих индивидов, которые оплодотворили бы целые века, но в заблуждении и страсти или под гнетом необходимости были бесполезно растрачены на недостойные и бесплодные дела либо же просто пущены на ветер, – если бы мы увидели все это, мы содрогнулись бы и возопили о погибших сокровищах целых веков. Но дух земли улыбнулся бы и сказал: «Источник, из которого текут индивиды и их силы, неисчерпаем и бесконечен, как время и пространство, ибо они, подобно этим формам всех явлений, тоже суть лишь явление, видимость воли. Никакая конечная мера не может исчерпать этого бесконечного источника; оттого каждому событию или созданию, заглушённому в своем зародыше, открыта для возвращения ничем не ущемленная бесконечность. В этом мире явлений так же невозможна истинная утрата, как и истинное приобретение. Существует исключительно воля: она – вещь в себе, она – источник всех явлений. Ее самопознание и опирающееся на него самоутверждение или самоотрицание – вот единственное событие в себе» {Эта последняя фраза не может быть понята без знакомства со следующей книгой.}.
§ 36
За нитью событий следит история: она прагматична, поскольку выводит их по закону мотивации, а этот закон определяет являющуюся волю там, где она освещена познанием. На низших ступенях объектности воли, там, где она действует еще без познания, законы изменения ее явлений рассматриваются естествознанием в качестве этиологии, а постоянное в этих законах – в качестве морфологии, которая облегчает себе свою почти бесконечную задачу с помощью понятий, схватывая общее, чтобы выводить из него частное. Наконец, просто формы, в которых для познания субъекта как индивида идеи являются развернутыми во множественность, т. е. время и пространство, рассматривает математика. Все эти знания, носящие общее имя науки, следуют, таким образом, закону основания в его различных формах, и их предметом остается явление, его законы, связь и возникающие отсюда отношения.
Но какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений, единственную подлинную сущность мира, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью, – словом, идеи, которые представляют собой непосредственную и адекватную объектность вещи в себе, воли?
Это – искусство, создание гения. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, существенное и постоянное во всех явлениях мира, и в зависимости от материала, в котором оно их воспроизводит, это – изобразительное искусство, поэзия или музыка. Его единственный источник – познание идей, его единственная цель – передать это познание. В то время как наука, следуя за беспрерывным и изменчивым потоком четверояких оснований и следствий, после каждой достигнутой цели идет все дальше и дальше и никогда не может обрести конечной цели, полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, – искусство, напротив, всегда находится у цели. Ибо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и ставит его изолированно перед собой, и это отдельное явление, которое в жизненном потоке было исчезающе малой частицей, становится для искусства представителем целого, эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени. Оттого искусство и останавливается на этой частности: оно задерживает колесо времени9, отношения исчезают перед ним, только существенное, идея – вот его объект.
Мы можем поэтому прямо определить искусство как способ созерцания вещей независимо от закона основания, в противоположность такому рассмотрению вещей, которое придерживается последнего и составляет путь опыта и науки. Второй из названных способов рассмотрения подобен бесконечной, горизонтально бегущей линии, а первый – пересекающей ее в любом пункте перпендикулярной. Тот, что следует закону основания, – это разумный способ созерцания, который только и имеет значение и силу как в практической жизни, так и в науке; тот же, который отклоняется от содержания названного закона, – это гениальный способ созерцания, единственно имеющий значение и силу в искусстве. На первой точке зрения стоял Аристотель, на второй, в целом, – Платон. Первый способ подобен могучему урагану, который мчится без начала и цели, все сгибает, колеблет и уносит с собою; второй – спокойному лучу солнца, который пересекает путь этого урагана, им совершенно не затронутый. Первый подобен бесчисленным летящим брызгам водопада, которые, постоянно сменяясь, не успокаиваются ни на миг; второй – радуге, которая тихо покоится на этой бушующей стихии.
Идеи постигаются только путем описанного выше чистого созерцания, которое совершенно растворяется в объекте, и сущность гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию; и так как последнее требует полного забвения собственной личности и ее интересов, то гениальность есть не что иное как полнейшая объективность, т. е. объективное направление духа в противоположность субъективному, которое обращено к собственной личности, т. е. воле. Поэтому гениальность – это способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и освобождать познание, существующее первоначально только для служения воле, избавлять его от этого служения, т. е. совершенно упускать из вида свои интересы, свои желания и цели, полностью отрешаться на время от своей личности, оставаясь только чистым познающим субъектом, ясным оком мира, – и это не на мгновения, а с таким постоянством и с такою обдуманностью, какие необходимы, чтобы воспроизвести постигнутое сознательным искусством и «то, что предносится в зыбком явленьи, в устойчивой мысли навек закрепить».
Для того чтобы в индивиде проявился гений, он как будто должен был получить в удел такую меру познавательной способности, которая далеко превосходит то, что требуется для служения индивидуальной воле; и этот высвободившийся избыток познания становится здесь безвольным субъектом, ясным зеркалом сущности мира. Отсюда объясняется живое беспокойство гениальных индивидов: действительность редко может их удовлетворить, потому что она не наполняет их сознания; это и сообщает им неутомимую стремительность, беспрерывное искание новых и достойных размышления объектов, почти всегда не удовлетворенное тяготение к себе подобным, к равным себе существам, с которыми они могли бы иметь общение, – между тем как обыкновенный сын земли, совершенно наполненный и удовлетворенный обычной действительностью, растворяется в ней, всюду находя себе подобных, испытывает тот особый комфорт повседневной жизни, в котором отказано гению.
Существенным элементом гениальности признавали фантазию и даже иногда отождествляли ее с нею: первое – правильно, второе – нет. Так как объекты гения как такового – это вечные идеи, пребывающие формы мира и всех его явлений, и так как познание идей необходимо имеет созерцательный, а не абстрактный характер, то познание гения было бы ограничено идеями действительно предстоящих его личности объектов и зависело бы от сцепления обстоятельств, доставляющих ему эти идеи, если бы фантазия не расширяла его горизонта далеко за действительные пределы его личного опыта и не давала ему возможности из того малого, что проникло в его наличную апперцепцию10, созидать все остальное и таким образом пропустить перед собою почти все возможные картины жизни. К тому же действительные объекты почти всегда являются лишь очень несовершенными экземплярами выражающейся в них идеи: вот почему гений нуждается в фантазии, чтобы видеть в вещах не то, что природа действительно создала, а то, что она пыталась создать, но чего не достигла вследствие упомянутой в предыдущей книге междоусобной борьбы ее форм. К этому мы вернемся в дальнейшем при рассмотрении скульптуры. Таким образом, фантазия расширяет кругозор гения за пределы действительно предстоящих его личности объектов – как в качественном, так и в количественном отношении. Вот почему необыкновенная сила фантазии является спутницей и даже условием гениальности, но сама она еще не свидетельствует о последней: напротив, даже в высшей степени негениальные люди могут обладать большой фантазией. Ибо подобно тому как действительный объект можно рассматривать двумя совершенно различными способами: чисто объективно, гениально, постигая его идею, или же обычно, в его подчиненных закону основания отношениях к другим объектам и к собственной нашей воле, – так тем же двояким способом можно созерцать и образ фантазии: в первом случае он выступает как средство к познанию идеи, передача которой и есть художественное произведение; во втором случае образ фантазии употребляют для построения воздушных замков, льстящих себялюбию и прихоти, доставляющих мимолетный мираж и восторг; при этом в соединенных таким путем фантастических образах всегда познаются, собственно, только их отношения. Кто предается этой игре, тот фантазер: картины, которые тешат его в одиночестве, он будет смешивать с действительностью и потому станет для нее непригодным; быть может, он опишет игру своей фантазии, как это обыкновенно бывает во всяких романах, которые забавляют ему подобных и большую публику, ибо читатели воображают себя на месте героев и находят описание очень «милым».
Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она ежедневно производит тысячами, как я уже сказал, совершенно не способен на незаинтересованное в полном смысле слова наблюдение, по крайней мере, сколько-нибудь продолжительное, что и составляет истинную созерцательность: он может направлять свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное, отношение к его воле. Так как для этого требуется познание отношений и достаточно абстрактного понятия вещи (а по большей части оно даже пригоднее всего), то обыкновенный человек не останавливается долго на чистом созерцании, не пригвождает надолго своего взора к одному предмету, но для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятие, под которое можно было бы все это подвести, как ленивый ищет стул, и затем предмет больше уже не интересует его. Вот почему он так быстро управляется со всем: произведениями искусства, прекрасными созданиями природы и многозначительным зрелищем жизни во всех ее сценах, повсюду. Но ему некогда останавливаться: он ищет в жизни только своей дороги, в крайнем случае, еще и всего того, что может когда-нибудь стать его дорогой, т. е. топографических заметок в широком смысле этого слова; на созерцание же самой жизни как таковой он не теряет времени. Наоборот, познавательная сила гения в своем избытке на некоторое время освобождается от служения его воле, и гений останавливается на созерцании самой жизни, стремится в каждой вещи постигнуть ее идею, а не ее отношения к другим вещам; вот почему он часто не обращает внимания на свой собственный жизненный путь и потому в большинстве случаев проходит его довольно неискусно. Если для обыкновенного человека познание служит фонарем, который освещает ему путь, то для гения оно – солнце, озаряющее для него мир. Это великое различие в способе созерцания не преминет отразиться даже и на внешности обоих. Взор человека, в котором живет и действует гений, легко отличает его от других: живой и в то же время пристальный, он носит созерцательный характер, как это видно на изображениях немногих гениальных голов, которые время от времени среди бесчисленных миллионов создавала природа; напротив, во взоре других людей, если только он, как в большинстве случаев, не тупой или вялый, легко заметить настоящую противоположность созерцания – высматривание. Поэтому «гениальное выражение» головы состоит в том, что виден решительный перевес познания над желанием, так что здесь выражается познание без всякого отношения в воле, т. е., чистое познание. Наоборот, обычно же в голове преобладает выражение воли, и видно, что познание начинает здесь действовать, лишь следуя импульсам воли, и, значит, обращено просто на мотивы.
Так как гениальное познание, или познание идеи, не следует закону основания, а познание, которое ему следует, наделяет в жизни умом и разумностью и создает науки, то гениальные индивиды обременены недостатками, вытекающими из пренебрежения вторым из названных способов познания. Но здесь надо оговориться, что моя дальнейшая речь касается гениальных индивидов лишь постольку, поскольку и пока они действительно проникнуты гениальным способом познания, что бывает вовсе не в каждый момент их жизни, ибо великое, хотя и непроизвольное напряжение, необходимое для безвольного восприятия идей, впоследствии неизбежно ослабевает, и возникают большие перерывы, когда эти гениальные личности становятся почти на один уровень с обыкновенными людьми как в своих преимуществах, так и в своих недостатках. Вот почему творчество гения искони признавали вдохновением и, как показывает само слово, в нем видели действие какого-то отличного от самого индивида сверхчеловеческого существа, которое овладевает им лишь периодически. Нерасположенность гениальных индивидов к тому, чтобы внимательно вникнуть в содержание закона основания, проявляется прежде всего по отношению к основанию бытия как нерасположенность к математике, рассматривающей самые общие формы явления, пространство и время (которые сами – лишь виды закона основания), и потому составляющей полную противоположность того созерцания, которое, отвлекаясь от всяких отношений, направлено только на содержание явления, на выражающуюся в нем идею. Кроме того, гения отталкивают и логические приемы математики, потому что они, закрывая путь к подлинному уразумению, не удовлетворяют, а предлагают лишь простую цепь умозаключений, по закону основания познания, и из всех духовных сил больше всего требуют памяти, чтобы постоянно иметь наготове все те прежние положения, на которые делаются ссылки. И опыт подтвердил, что великие гении искусства не обладают способностью к математике: никогда не было человека, который бы одновременно отличался в обеих сферах. Альфиери рассказывает, что он никогда не мог понять даже четвертой теоремы Евклида. Что касается Гете, то неразумные противники его теории цветов вдоволь упрекали его в недостатке математических сведений, – хотя здесь, где речь шла не об измерении и вычислении по гипотетическим данным, а о непосредственно рассудочном познании причины и действия, подобные упреки были до того нелепы и неуместны, что их авторы обнаружили этим, как и другими своими мидасовскими приговорами, полный недостаток способности суждения. То, что и теперь, почти через полвека после появления гетевской теории цветов, ньютоновские небылицы даже в Германии все еще невозбранно владеют кафедрами и публика продолжает совершенно серьезно толковать о семи однородных цветах и их различной преломляемости, – некогда будет причислено к очень характерным интеллектуальным чертам человечества вообще и немцев в особенности.
Этой же указанной выше причиной объясняется и тот известный факт, что, наоборот, выдающиеся математики мало восприимчивы к произведениям искусства, – с особенной наивностью это выражено в известном анекдоте о том французском математике, который, прочитав «Ифигению» Расина, пожал плечами и спросил: «Qu’est-ce-que cela prouve?» [Что это доказывает?] Далее, так как быстрое восприятие отношений по закону причинности и мотивации и составляет, собственно, практический ум, а гениальное познание не направлено на отношения, то умный, поскольку и пока он умен, не может быть гениальным, а гений, поскольку и покуда он гениален, не может быть умным. Наконец, наглядное познание вообще, в области которого исключительно находится идея, прямо противоположно разумному, или абстрактному познанию, которым руководит закон основания. Как известно, гениальность редко встречается в союзе с преобладающей разумностью; напротив, гениальные индивиды часто подвержены сильным аффектам и неразумным страстям. Причиной этого служит, однако, не слабость разума, но отчасти необычайная энергия воли, которую представляет собой гениальный индивид и которая выражается в стремительности всех волевых актов; отчасти же – преобладание наглядного чувственного и рассудочного познания над абстрактным, отсюда и решительная направленность на наглядное: оно производит на гения очень энергичное впечатление, которое до того затмевает бесцветные понятия, что уже не они, а это впечатление руководит поступками, отчего поступки и становятся неразумными; вот почему впечатление минуты так сильно действует на гениев, увлекая их к необдуманному, к аффекту, к страсти. Поэтому – да и вообще оттого, что их познание отчасти освободилось от служения воле, – они в разговоре думают не столько о лице, с которым беседуют, сколько о предмете беседы, который живо предстает им; оттого они судят или рассказывают слишком объективно для собственного интереса и не обходят молчанием того, о чем благоразумнее было бы умолчать, и т. д. Поэтому, наконец, они склонны к монологам и вообще проявляют слабости, которые действительно приближают их к безумию. Часто отмечалось, что у гениальности и безумия есть такая грань, где они соприкасаются между собою и подчас переходят друг в друга, и даже поэтическое вдохновение признавалось видом безумия: Гораций (Оды III, 4) называет его amabilis insania, и также «милым безумием» называет его Виланд во вступлении к «Оберону». Даже Аристотель, по свидетельству Сенеки (De tranq. animi, 15, 16), сказал: «Не было великого дарования, которое бы не имело примеси безумия». Платон в приведенном выше мифе о темной пещере («Государство», 7) выражает это так: кто вне пещеры лицезрел настоящий солнечный свет и действительно сущие вещи (идеи), не могут уже после этого видеть в пещере, потому что их глаза отвыкли от темноты; они не в состоянии уже хорошо различать силуэты и своими ошибками навлекают на себя насмешки других, никогда не выходивших из этой пещеры, от этих силуэтов. Точно так же в «Федре» он прямо говорит, что ни один истинный поэт не может обойтись без некоторой доли безумия и что всякий, кто в преходящих вещах познает вечные идеи, кажется безумцем. И Цицерон свидетельствует: «Демокрит утверждает, что не может быть великого поэта без некоторого безумия, и то же говорит Платон» (De divin. I, 37). И, наконец, Поп говорит:
Великий дух всегда безумию сродни, Стеною тонкою разделены они11.
Особенно поучителен в этом отношении «Торквато Тассо» Гете, где перед нами изображено не только страдание, характерное мученичество гения как такового, но и его постепенный переход к безумию. Наконец, факт непосредственной близости между гениальностью и безумием подтверждается биографиями очень гениальных людей, например, Руссо, Байрона, Альфиери, и анекдотами из жизни других. С другой стороны, я должен сказать, что при своем частом посещении сумасшедших домов я встречал отдельных субъектов с неоспоримо великими задатками, и их гениальность ясно просвечивала сквозь их безумие, которое, однако, получило решительное преобладание. Это не может быть случайным, потому что, с одной стороны, количество сумасшедших сравнительно очень мало, а с другой стороны, гениальный индивид представляет собой редкое явление, превосходящее всякую оценку, – величайшее исключение в природе; в этом можно убедиться, хотя бы сосчитав действительно великих гениев, которых создала вся образованная Европа в течение всей древности и новых веков и к которым надо причислить только тех, кто оставил творения, сохранившие вечную и непреходящую ценность для человечества, – сосчитав, говорю я, эти единицы и сравнив их число с теми 250 миллионами, которые, обновляясь каждые тридцать лет, постоянно живут в Европе. Я не скрою и того, что знал людей, – правда, не выдающейся, но несомненной духовной силы, – которые обнаруживали в то же время легкий оттенок помешательства. Отсюда следует, по-видимому, что каждое повышение интеллекта сверх обычного уровня уже располагает, как аномалия, к безумию. – Постараюсь, однако, возможно короче выразить свое мнение о чисто интеллектуальной причине такого сродства между гениальностью и безумием, потому что это несомненно поможет уяснить подлинное существо гениальности, т. е. той способности духа, которая только и в состоянии творить истинные произведения искусства. Но для этого необходимо вкратце рассмотреть самое безумие {Сюда относится 31 гл. II тома.}.