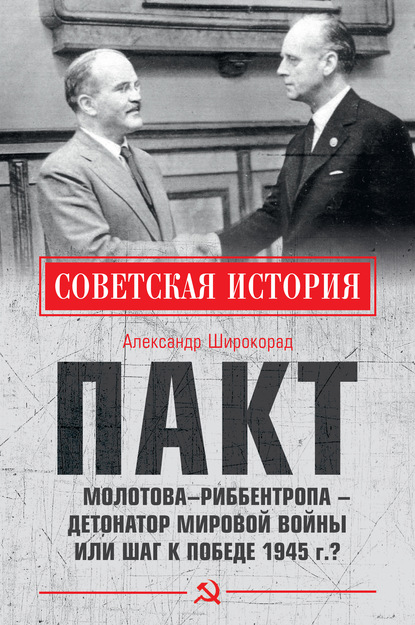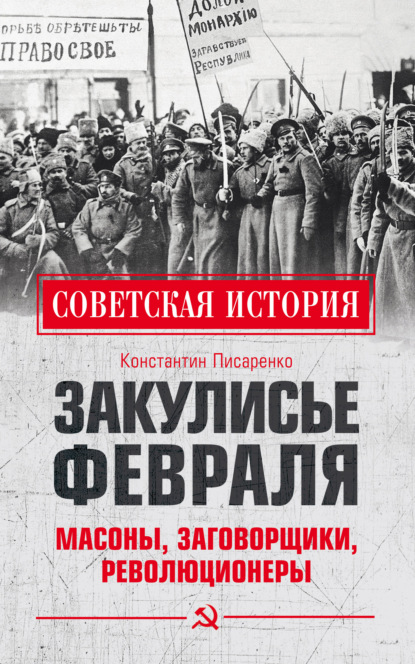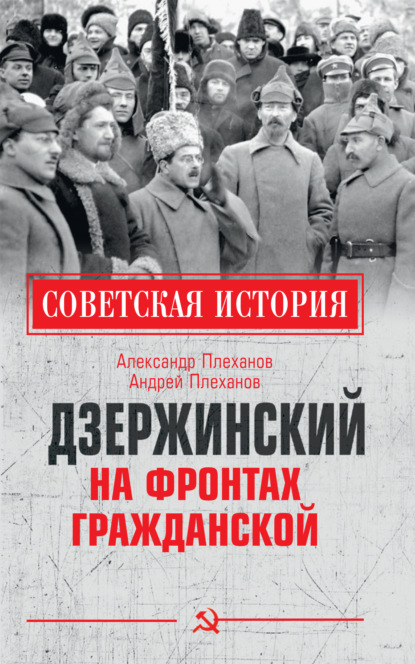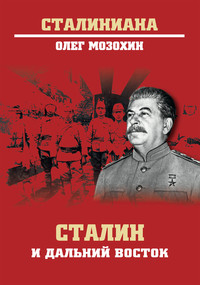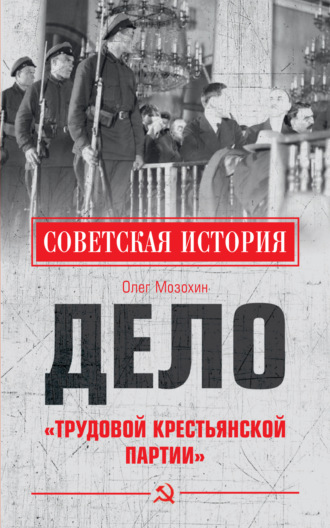
Полная версия
Дело «Трудовой Крестьянской партии»
Из докладной записки информационного отдела ОГПУ об антисоветских проявлениях в деревне на 1 января 1928 г. следует, что если в 1924 г. фактов террора (убийства, избиения, ранения и т. д.) было зарегистрировано 339, в 1925 г. – 902, в 1926 г. – 711, в 1927 г. – 901. Террор особенно сильно был развит в Сибири, Украине и ДВК.
Сведения об объектах кулацкого террора за те же годы показывают, что террор направлялся главным образом против работников низового советского аппарата, членов ВКП(б) и ВЛКСМ. В 1927 г. в числе объектов террора работники низового советского аппарата составляли – 34,6 %, партийцы и комсомольцы – 29,2, селькоры – 3,1 %, прочий советский актив деревни – 33,1 %.
В связи с угрозой войны и ростом активности кулацко-зажиточных и антисоветских элементов деревни наблюдались случаи поджогов изб-читален, сельсоветов, ВИКов, клубов и т. п.
Террористические акты выражались в убийствах, попытках убийства, в угрозах (открытых и анонимных), в поджогах и прочее. Иногда угрозы террора носили массовый характер в виде угроз бедноте расправой на случай переворота. В значительной части террор применялся к лицам, в прошлом занимавшихся раскулачиванием, а впоследствии проводящим работу по ущемлению кулачества (налог, землеустройство, хлебозаготовки и пр.).
Циркуляр ОГПУ о борьбе с кулацким террором за август 1928 г. констатировал обострившуюся в деревне классовую борьбу, особенно во время сбора сельскохозяйственного налога, самообложения, хлебозаготовок и подготовки к перевыборной кампании.
Наряду с увеличением террористических актов росло также и т. н. «политическое хулиганство». Кулацкая молодежь деревни, антисоветский и уголовный элемент, поощряемый и руководимый кулачеством, выступал против культурно-просветительных организаций, срывая доклады, лекции, спектакли и т. д., выступая против активных комсомольцев, разгоняя ячейковые собрания, уничтожая избы-читальни и тем самым дополняя общую борьбу кулачества против советского актива.
ОГПУ констатировало, что борьба с этими выступлениями велась недостаточно активно. Не по всем делам о террористических выступлениях следствие велось органами ОГПУ. Слишком незначителен был процент предупрежденных террористических актов. По очень большому количеству терактов, особенно по поджогам, виновники оставались нераскрытыми. Продолжая свою террористическую деятельность, они создавали впечатление о слабости репрессий по контрреволюционным выступлениям.
Не проводя предупредительную работу по терактам, местные органы ОГПУ не обращали должного внимания на угрозы и не делали из этого соответствующих оперативных выводов. Отмечались случаи, когда информаторами фиксировались угрозы кулачества расправой советским работникам, а по этим случаям, несмотря на имеющихся свидетелей публичных угроз, не принималось мер немедленного ареста и следствия, а в некоторых случаях такие сообщения передавались прокуратуре для принятия мер. Это обстоятельство свидетельствовало об уклонении органов ОГПУ от своих непосредственных обязанностей.
Следующими недостатками отмечалось медленное прохождение дел по кулацкому террору, затягивание следствия и недостаточные репрессии. Зафиксировано было несколько случаев, когда участники террористических актов, приговоренные к высшей мере наказания, замененной 10 годами заключения, через год уже находились на свободе и являлись организаторами и вдохновителями новых террористических выступлений против советского актива деревни.
Отмечалось чрезмерное увлечение показательными процессами, когда гласное разбирательство этих дел большого общественного значения не имело.
ОГПУ предложило усилить борьбу с этими преступлениями. Для предупреждения террористических актов предлагалось добиться лучшего выявления лиц с такими наклонностями и их вдохновителей. Если проверкой или свидетельскими показаниями устанавливалось серьезное значение угрозы, должен был производиться немедленный арест этих лиц. По всем случаям террора необходимо было принимать немедленные оперативные меры в зависимости от социального положения и степени преступления, совершенного виновниками.
Следствие по всем террористическим выступлениям и политическому хулиганству предлагалось сосредоточить исключительно в органах ОГПУ, добиваясь наиболее быстрого рассмотрения дел. Во всех случаях наложения мягких приговоров принять соответствующие меры к их опротестованию, сообщая об этом в ОГПУ. Все дела по террористическим актам предлагалось направлять по соглашению с директивными организациями для внесудебного разбора в Коллегию ОГПУ, за исключением тех дел, общественное значение которых было неоспоримо, и которые при проведении гласного или показательного процесса могли сплотить советскую общественность деревни и завоевать симпатии широких слоев крестьянства.
По всем делам, по которым виновники не были обнаружены, предлагалось продолжать агентурную разработку до окончательного результата. О фактах террора предлагалось немедленно сообщать внеочередными сообщениями[50].
В докладной записке ИНФО ОГПУ от 4 октября 1928 г. приводится таблица о масштабах террора по отдельным районам Союза с 1 января 1924 г. по 1 сентября 1928 г.

**) В цифры по Центру и Поволжью с момента районирования не включены данные по ЦЧО, СВО и НВК.
**) В таблицу входят систематические угрозы и анонимки.
В 1926 г. органами ОГПУ было зарегистрировано 110 убийств, в 1927 г. – 80, а за 8 месяцев 1928 г. – 81. Выросло количество поджогов, за 8 месяцев было их зарегистрировано 122 (в 1927 г. их было – 78). Наиболее массово это проявилось в Сибири, Украине и Поволжье. Широкое распространение имели угрозы, их число из года в год увеличивалось. Если в 1926 г. было зафиксировано 240 угроз, в 1927 г. – 430, то в 1928 г. – 511.
Резкий рост террора в 1928 г. находил себе объяснение в общем росте антисоветской активности кулачества в связи с проводимыми мероприятиями по усилению хлебозаготовок в 1927–1928 гг. и в связи с обострением продовольственных затруднений[51].
3 января 1929 г. Политбюро ЦК, рассматривая вопросы комиссии по политотделам, предложило НКЮ обеспечить максимальную быстроту осуществления репрессий в отношении кулацких террористов[52]. На следующий день зампред ОГПУ Г.Г. Ягода предписал местным органам безопасности все дела кулацкого террора в деревне, как законченные, так и находящиеся в следственном производстве, передать немедленно в соответствующие суды. При этом он просил оказывать прокуратуре и судебным инстанциям всяческое содействие, как в быстрейшей постановке этих дел, так и в своевременном сообщении о совершенных терактах в деревне. Кулацко-террористические дела ни в коем случае нельзя было истолковывать как бандитские[53].
В письме ЦК ВКП(б) от 8 января 1929 г. № 906/сс отмечалось, что рост социалистического строительства и связанное с ним обострение классовой борьбы в деревне вызывали подъем антисоветской активности кулацких элементов. Учитывая то, что ряд местных партийных организаций обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой принять меры для защиты партийно-советских работников от кулацких контрреволюционных вылазок, было принято решение дать решительный отпор проявлениям кулацкого террора и обеспечить низовым работникам нормальные условия работы.
С этой целью ЦК предложил всем организациям:
«1. Обеспечить максимальную быстроту расследования дел по кулацким террористическим актам с быстрым осуществлением репрессий в отношении преступников, с применением к ним самых суровых мер наказания в судебном порядке. При этом необходимо тщательно отделять убийства на личной почве от случаев политических убийств, организуемых кулачеством.
2. Избегая раздувания в печати и слишком частого помещения сообщений о террористических актах кулачества, следует опубликовывать в печати эти факты с одновременным (или в ближайшее время) опубликованием сообщения о репрессиях советской власти за эти акты.
3. Использовать судебные процессы этого рода для мобилизации общественного мнения бедноты, батрачества и середняков против кулачества для организации систематического отпора всяческим проявлениям кулацкого наступления.
4. Центральный Комитет возложил на Наркомюсты выполнение этих директив, а на комиссию по политическим делам – контроль и наблюдение за тем, чтобы директивы ЦК строго проводились в жизнь судебными и прокурорскими органами»[54].
В дополнение к вышеуказанному письму ЦК председателем ОГПУ В.Р. Менжинским было дано указание полномочному представителю ОГПУ по Северо-Кавказскому краю Е.Г. Евдокимову об осторожном применении высшей меры наказания в деревне за террористические акты. Только при полной доказанности преступления дела должны были направляться в суд.
Менжинский писал, что никакого ограничения прав в смысле следствия по делам о кулацком терроре не имеется. Эти меры вводятся из-за того, что некоторые ПП начали производить массовые аресты и предполагали заодно произвести чистку деревни, арестовывая по тысяче и более человек сразу.
Далее он писал: «Если террор, несмотря на жестокую судебную репрессию, будет расти, может получиться необходимость пустить в ход и репрессии ОГПУ. Но для этого потребуется пересмотр вопроса. Сейчас оперативный подход при раскрытии и направлении этих дел должен быть приблизительно такой, какой имел место при применении мер ОГПУ при хлебозаготовках. Совершенно ясно, что всякие контрреволюционные, шпионские, белогвардейские, бандитские группировки преследуются во внесудебном порядке и проводятся через Вашу тройку. Здесь требуется только наше утверждение. Дела кулацкого террора, по которым Вы будете вести следствие, передавайте прокурору, считайтесь с необходимостью последующей передачи этих дел Политкомиссии в Москве и следите за быстротой продвижения и применением соответствующих репрессий. Необходимо иметь в виду, что судебные власти предупредить теракты своевременной ликвидацией террористических группировок не могут. Это Ваша задача и по таким делам Вы ведете расследование. Если таких дел окажется у Вас много, и они не будут подходить под другие статьи УК РСФСР белогвардейщина, шпионаж и т. д., то эти дела тоже передавайте прокурору для Политкомиссии в Москве и последующего рассмотрения в суде. Споры о размерах террора будут происходить именно по последним делам. А за 1928 г. установленных случаев совершенного террора оказалось, по нашим сведениям, всего 194, а у НКЮ вдвое меньше. При таком количестве дел, ОГПУ конечно пускать в ход не приходится»[55].
Таким образом, ранее доложенная цифра случаев терроризма за восемь месяцев 1928 г. значительно уменьшилась, по всей видимости, это связано расширительном толковании объективной стороны терроризма.
Необходимо отметить, что согласно циркуляру № 155003 от 24 января 1929 г. ОГПУ серьезное внимание уделялось оперативным разработкам крестьянских газет. Одновременно с проверкой старых агентурных и следственных дел тщательно разрабатывались все информационные и агентурные данные относительно тенденций к созданию крестьянских союзов, организаций и объединений[56].
Таким образом, органами государственной безопасности целенаправленно проводилась работа по вскрытию и ликвидации таких организаций. Создание крестьянских союзов явно не приветствовалось.
Обстановка в деревнях продолжала «накаляться», после неурожая 1928 г. крестьяне отказывались сдавать хлеб для экспорта, причем уже авансированного в счет будущих поставок. Это не могло не вызвать силового давления на сравнительно зажиточное крестьянство.
На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. Сталин отметил, что метод хлебозаготовок не дает возможность мобилизовать трудящиеся слои деревни против кулачества для их выполнения.
Сталин обвинил кулаков в препятствовании хлебозаготовкам. Рассматривая кулака как основную классовую силу, заинтересованную в срыве этих планов, ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б) потребовал усилить борьбу против капиталистических элементов деревни, развивать решительное наступление на кулака, пресекать его попытки пролезть в колхозы. Иначе невозможно было сломить нежелание среднего крестьянства идти в колхоз, изменить «собственническую» психологию мужика и обобществить сельское хозяйство на деле. Идеология коллективизации, раскулачивания и кулацкой ссылки стала центральной политической кампанией большевиков. К ее практической разработке ЦК ВКП(б) приступил в декабре 1929 г., когда Сталин провозгласил переход от политики ограничения «эксплуататорских тенденций» кулачества к политике его ликвидации как класса. Районами сплошной коллективизации стали основные зернопроизводящие районы страны.
Принудительная коллективизация крестьянских хозяйств превратилась в одно из крупнейших политических преступлений в истории страны. Тем не менее V съезд Советов СССР 22 мая 1929 г. одобрил политику правительства в области социалистической реконструкции сельского хозяйства.
Часть крестьян, спасаясь от репрессий, уезжала работать на индустриальные стройки. Деревня, лишившаяся большого количества рабочих рук, стала приходить в упадок. Это было вызвано также и перекачкой средств из сельского хозяйства в промышленность через государственный бюджет.
23 сентября 1929 г. ОГПУ, констатируя недостаточное развертывание оперативных мероприятий полномочными представительствами по хлебозаготовкам, предложило усилить применение репрессивных мер по высылке зажиточных кулацких слоев, уклонявшихся от выполнения заданий по хлебозаготовкам, и злостных спекулянтов.
15 января 1930 г. ОГПУ были подведены предварительные итоги борьбы с контрреволюцией на селе в 1929 г. Сообщалось, что были ликвидированы 7305 контрреволюционных организаций, арестовано 95 208 человек. Следствие было закончено по 6221 контрреволюционному образованию, по 81 205 человек.
Если в 1926–1927 гг. массовых выступлений было зарегистрировано 63, в 1928 г. – 709, то в 1929 г. их уже насчитывалось 1190.
Все более четко вырисовывался антисоветский характер большинства массовых выступлений, которые активизировались в июне, октябре и ноябре 1929 г. Рост массовых выступлений в эти месяцы шел в основном за счет возрастания числа выступлений на почве хлебозаготовок. Серьезное значение на протяжении всего 1929 г. имели выступления на религиозной почве, в связи с закрытием церквей.
В период хлебозаготовок органами ОГПУ в деревне было ликвидировано 137 контрреволюционных организаций, арестовано 4462 человека; контрреволюционных группировок – 3464, арестовано 20 922 человека, кроме того, 23 684 одиночек.
Отмечалось, что в условиях пребывания в деревне различных контрреволюционных лиц из числа бывших главарей банд, офицерства, атаманов, руководителей белого повстанческого движения и др. происходило их сращивание с кулацко-белогвардейскими элементами деревни, что представляло собой серьезную опасность для власти[57].
Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» устанавливало сроки завершения коллективизации. Основной формой колхозного строительства постановление признало сельскохозяйственную артель.
Диктат сверху, постоянная угроза быть обвиненными в причастности к «правым уклонистам» из-за недостаточно решительных действий толкали местных работников на применение насилия к крестьянам, не желающим вступать в колхозы. Под давлением из Москвы местные руководители в начале тридцатых годов приступили к массовому насаждению колхозов. В местностях, объявленных «районами сплошной коллективизации», в колхозы согнали почти всех крестьян. В это время массовые репрессии обрушились не только на относительно зажиточную часть деревни, но и на тех крестьян, которые противились вступлению в колхозы.
Крестьяне стали сокращать посевы, резать скот. Это подтолкнуло сталинскую группу к еще более радикальным действиям. Постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г. санкционировало ужесточение репрессий. Принятым постановлением в районах сплошной коллективизации отменялось действие закона об аренде и применении наемного труда и предписывалось конфисковывать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке продукции, продовольственные, фуражные и семенные запасы. Полномочным представительствам ОГПУ было предложено усилить применение репрессивных мер по высылке зажиточных кулацких слоев, уклонявшихся от выполнения заданий по хлебозаготовкам, и злостных спекулянтских элементов. При этом дела, требующие немедленных репрессий, по согласованию с областными, краевыми комитетами могли рассматриваться во внесудебном порядке.
Во исполнение постановления был издан приказ ОГПУ № 44/21 от 2 февраля 1930 г., который провозгласил, что в ближайшее время кулаку, особенно его наиболее богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный удар. Поставленные задачи должны были осуществляться при безусловной поддержке батрацко-бедняцкой и середняцкой массы. Мероприятия органов ОГПУ должны были разворачиваться по двум направлениям. Это немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива и массовые выселения (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и погранполосы) кулаков и их семейств в отдельные северные районы СССР с конфискацией их имущества.
При ПП ОГПУ создавались тройки, с представителями крайкомов ВКП(б) и прокуратуры. Состав троек предварительно должен был высылаться на утверждение в Коллегию ОГПУ. Планировалось быстрое проведение следствия по возбужденным делам и их рассмотрение во внесудебном порядке – в организуемых тройках.
Для организации бесперебойной отправки выселяемых создавались сборные пункты. При отправке их в другое место жительства им разрешалось брать с собой имущество и продовольствие в пределах установленной нормы. Причем в обязательном порядке предлагалось брать топоры, пилы, лопаты, плотницкие инструменты, по возможности хомуты и шлеи, а также продовольствие из расчета на месяц, общим весом не более 5—30 пудов на семью.
Установленные сроки операции по выселению по разным регионам были свои. Так, по СКК, СВК, НВК устанавливалось – 10 февраля; по УССР, ЦЧО – 15 февраля; по БССР – 1 марта 1930 г. В соответствии с этими сроками планировалась и отправка выселяемых с 15 февраля по 5 марта 1930 г.
Количество выселяемых и места выселения были заранее распределены. В первую очередь выселяли 14 тысяч человек на Урал, в Казахстан, в Северный край, Сибирь. Во вторую очередь планировалось выселение из Ленинградской области – 6 тысяч человек; Татреспублики – 4 тысячи; из Башреспублики – 5 тысяч; из Крыма – 3 тысячи в Северный край. Из Московской области – 15 тысяч человек в Сибирь. Из Западного края – 7 тысяч на Урал. Из Ивановской области и из Нижегородского края по 5 тысяч человек в Казахстан и т. д.[58]
К октябрю 1930 г. было выселено 115 231 семей, в 1931 г. – 265 795 семей. За два года, соответственно, 381 тысяча семей. Часть кулацких семей (200–250 тысяч) успела самораскулачиться. Общее число высланных в 1932 г. составляло не менее 100 тысяч. Кроме того, 400–450 тысяч семей, которые должны были расселяться отдельными поселками в пределах краев и областей прежнего проживания (третья категория), после конфискации имущества и разных мытарств в массе своей ушли из деревни на стройки и в города. В сумме получается около миллиона – миллиона ста тысяч хозяйств, ликвидированных в ходе раскулачивания[59].
21 марта 1930 г. Л.М. Заковский из Новосибирска сообщил Г.Г. Ягоде о том, что за пятидневку отправлено на север 2393 кулацких хозяйств, против 3852 в предыдущую. Всего выселено 12 695 хозяйств или 42,3 % от планировавшегося числа. Кроме того, было подготовлено к отправке еще 6182 хозяйств. Таким образом, выселение по второй категории по его подсчетам составит 18 877 хозяйств или 62,9 %.
Подготовительные мероприятия по внутриокружному расселению не проводились, хотя краевыми организациями было принято решение выселить только из районов сплошной коллективизации не меньше 60 % населения. Коллективизировано было 53 % населения, но, по мнению Заковского, эта цифра нереальна, так как не учитывались значительные выходы и даже распады некоторых колхозов.
Перегибы и извращения по коллективизации и ликвидации кулачества не прекращались. В погоне за процентом коллективизации в ряде мест давались установки: «не коллективизировав, не возвращайтесь», «мы тридцать человек расстреляли отказавшихся вступить в коммуну, не запишетесь – вам то же будет» и др. Для большего воздействия на сопротивляющихся работники мест подвергали крестьян различным угрозам, вызывая их ночами в Советы, самовольно забирая у крестьян продукты, скот и др.
При экспроприации кулачества продолжали иметь место случаи полного изъятия имущества, в том числе нескольких граммов лука, перца, детских сосок, варенья. Практиковалось изъятие хорошей одежды и замена ее рваньем. В ряде мест раскулачивание сопровождается издевательством, избиением, инсценировкой расстрела. Отмечались случаи мародерства, так, в Славогородском округе зафиксирован случай дележа экспроприированного имущества, при котором два коммуниста на этой почве переругались.
Сбор семфондов в ряде мест сопровождался поголовными обысками, вызвав у крестьянства мнение отбора всего хлеба. В результате отмечены массовые случаи зарывания зерна.
По ряду округов колхозы переживали кризисное положение с продовольствием и с кормами. В Омском округе зарегистрирован случай употребления в пищу колхозником собаки. Усилился падеж скота.
Отмечалось вредительство. Так, кулак Мозговой не использовал кредиты на постройку утепленного скотного двора, на закупку корма. В результате пало 333 головы скота.
За пятидневку увеличились случаи выхода из колхозов, до 7978 хозяйств, против 2359 предыдущих. Кроме этого, распалось 8 колхозов. По нескольким селениям в стопроцентно коллективизированных селах остались лишь десятки колхозников, преимущественно коммунистов. Выход в большинстве случаев сопровождался самовольным уводом скота, разбором другого имущества. За 20 дней марта вышло из колхоза 21 406 хозяйств.
В связи с продовольственным кризисом усиливались отрицательные настроения среди рабочих. Отмечались недовольства жестокостью по отношению к кулачеству в части их переселения зимой с семьями, полураздетыми и не обеспеченными продовольствием.
Со стороны некоторых командированных из Ленинграда рабочих в сибирскую деревню отмечены факты халатного отношения к работе, систематического пьянства, разврата, панических настроений, неверия в колхозы. В Барнаульском округе один рабочий пытался покончить жизнь самоубийствам, другой послал письмо ЦК с просьбой отзыва обратно.
Продолжался рост антисоветских проявлений. За пятидневку было отмечено 18 массовых выступлений, с числом участников около 3000 чел., которые были направлены против коллективизации, против выселения кулачества, с требованием выдачи хлеба; сопротивление вывозу из деревни семфондов. Отмечено 8 терактов, распространения 45 листовок с призывом к вооруженному восстанию. Убито повстанцев 150 чел., захвачено в плен 174.
С начала кампании в регионе было ликвидировано 23 организации, арестовано 794 чел., по 512 группировкам 3784 чел., одиночек 6046 чел., за попытку продажи имущества 407 чел., за бегство с местожительства 611 чел., всего 11 642 человек[60].
Естественно, все эти проявления насилия не могли не вызывать в крестьянской среде ответных мер отпора, в том числе и с оружием в руках.
В январе 1930 г. ОГПУ зарегистрировало по СССР 402 массовых выступления, в феврале – 1048, а в марте – 6528.
ОГПУ был проведен анализ уточненных данных антисоветских проявлений на селе за 1929 г. и январь – апрель 1930 г.
Всего за 1929 г. было зарегистрировано 9137 терактов. По видам террор распределялся следующим образом: убийств – 978, ранений – 552, покушений на убийство – 1581, избиений – 2745, поджогов – 3021, разгромов – 38, прочих видов имущественного вредительства – 222.
Из общего числа терактов за год – 3986 имели место на почве хлебозаготовок, 3049 – в связи с активной борьбой с кулачеством вообще. Наметился значительный рост числа терактов на почве коллективизации – 891 случай за год.
Некоторое сокращение террористической деятельности кулачества после наибольшего оживления хлебозаготовительной кампании (ноябрь – декабрь 1929 г.) сменилось новым ростом террора с января 1930 г. Рост террора обострился в основном из-за развернувшихся мероприятий по коллективизации.
В январе 1930 г. было зарегистрировано 750 терактов, в феврале – 1349, в марте – 1751. За апрель данные охватывали по основным районам лишь первую десятидневку и составляли 515 терактов.
Число поджогов, произошедших в 1929 г., еще более возросло в январе – апреле 1930 г. Если за весь 1929 г. из общего числа 9137 терактов был зарегистрирован 3021 поджог, то за январь – апрель 1930 г. из 4365 терактов – 1883 поджога. Поджигались в основном колхозные постройки и дома колхозников и активистов по коллективизации.