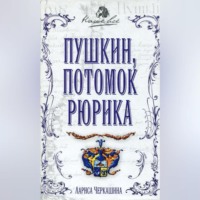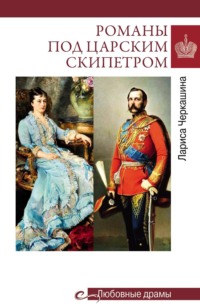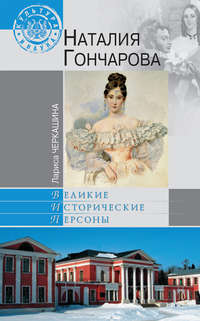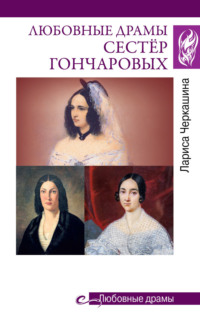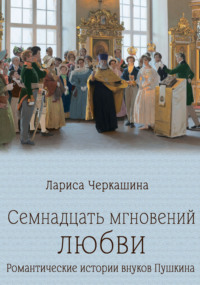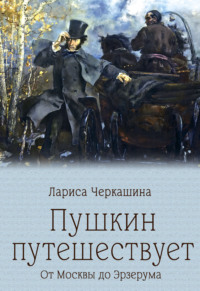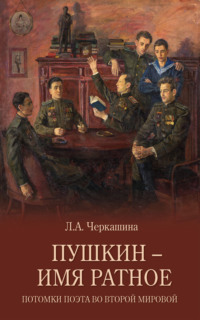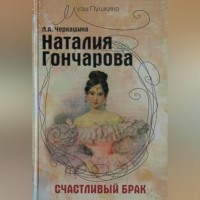Живой Пушкин. Повседневная жизнь великого поэта

Полная версия
Живой Пушкин. Повседневная жизнь великого поэта
Жанр: биографии и мемуарыдокументальная литературапушкинистика / пушкиноведениекниги об Александре Пушкинесерьезное чтениеоб истории серьезно
Язык: Русский
Год издания: 2021
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу