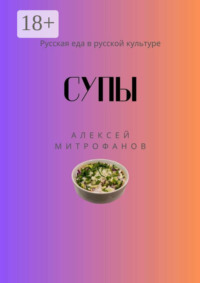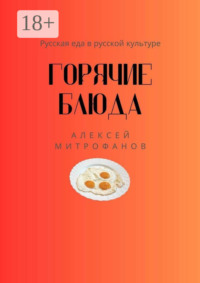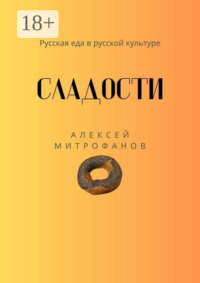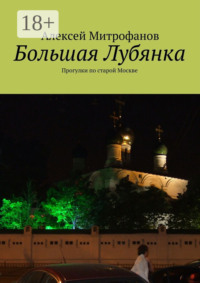Полная версия
Бульварное кольцо – 3. Прогулки по старой Москве
На этом часть путеводителя, посвященная Петровскому бульвару, завершается. Этот, на первый взгляд, удивительный, факт объясняется просто. Бульвар, будучи непродолжительным, находится между улицами Петровкой и Неглинной. И той, и другой в свое время были посвящены отдельные путеводители серии «Прогулки по старой Москве», в которые вошли наиболее ценные здания, находящиеся на пересечении с Петровским бульваром.
Мы же продолжаем путешествие по Бульварному кольцу. Следующий бульвар – Рождественский.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР
Назван в честь улицы Рождественки, с которой он пересекается в своем начале. Проложен в 1820-е годы. Протяженность 420 метров.
Начинается бульвар от Трубной площади. Н. Телешов описывал ее в таких словах: «Из московских площадей прежнего времени, кроме Хитровки, вспоминается еще Трубная площадь, или, попросту, Труба. Вся эта местность вправо и влево была окружена переулками, в которые входить и из которых выходить для людей мужского пола считалось не очень удобным. Даже первоклассный ресторан «Эрмитаж», стоявший на площади, и тот выполнял не только свою прямую роль, но имел тут же рядом так называемый «дом свиданий», официально разрешенный градоначальством, где происходили встречи не только с профессиональными девицами, но нередко и с замужними женщинами «из общества» для тайных бесед. Как один из московских контрастов, тут же, на горке, за каменной оградой, расположился большой женский монастырь с окнами из келий на бульвар, кишевший по вечерам веселыми девами разных категорий – и в нарядных, крикливых шляпках с перьями и в скромных платочках. А рядом с монастырем, стена в стену, стоял дом с гостиницей для тех же встреч и свиданий, что и в «Эрмитаже». Благодаря ближайшему соседству гостиницу эту в шутку называли «Святые номера». Кажется, по всей Москве не было более предосудительного места, чем Труба и ее ближайшие переулки, о которых ярко свидетельствует замечательный рассказ Чехова «Припадок».
Но по воскресеньям вся эта площадь, обычно пустая, покрывалась с утра густыми толпами людей, снующих туда и сюда, охотниками, рыболовами, цветоводами и всякими бродячими торговцами, оглашалась лаем собак, пением и щебетом птиц, криком петухов, кудахтаньем кур и громкими возгласами мальчишек, любителей голубей – «чистых» с голубыми крыльями и кувыркающихся в воздухе коричневых турманов, а также и хохлатых тяжелых «козырных». Здесь продавали собак, породистых и простых дворняжек, щенят, котят, зайцев, кроликов, певчих птиц, приносили ведра с карасями, рыбьими мальками и даже тритонами и зелеными лягушками – предсказательницами погоды – на все вкусы и спросы. Крестьяне привозили весной и осенью на телегах молодые деревца тополей, ясеней, лип и елок; продавались здесь же удочки и сетки, черви-мотыли для рыболовов, чижи, дрозды, голуби и канарейки; приводили на веревках и на цепях охотничьих собак, торговали птицами на выпуск, которые, получив свободу, улетали на соседний бульвар, чтобы расправить свои помятые крылья, и там же их опять ловили мальчишки и несли снова продавать.
К вечеру площадь начинала пустеть. Оставались только грязь и сор, лужи и всякий навоз. Перед «Эрмитажем», возле Страстного бульвара, становились в ряды извозчики-лихачи с дорогими рысаками, в ожидании щедрых седоков из ресторана, а по бульвару начинали разгуливать нарядные «барышни» в шляпках с перьями и вызывающе взглядывать на встречных мужчин… «Святые номера» постепенно наполнялись своей публикой, а в соседнем девичьем монастыре начинали гудеть колокола, призывая благочестивых ко всенощной.
Теперь из всего этого ничего не осталось – ни монастыря, ни окрестных «учреждений» под красными фонарями. Трубная площадь преобразилась и стала одной из красивейших площадей Москвы, сливаясь с Цветным бульваром, полным зелени, цветов и тенистых деревьев». Подробнее о достопримечательностях Трубной площади – птичьем и цветочном рынках, а также колоритнейших объектах городского «дна» мы уже сообщали в книге, посвященной улице Неглинной.
* * *
В 1905 году в газетах появилась кратная заметка: «К проходившему вчера по Рождественскому бульвару Ивану Пушкину подошли двое оборванцев со словами: „здравствуй, Ваня, дай денег“. Услыхав от него отказ, они бросились на него, сорвали пиджак, но тут подоспел городовой. Один из нападавших был задержан».
Можно вписать в скрижали этого бульвара и такое происшествие: «Проживающие в мебл. комн. „Самарканд“, на Рождественском бульваре, кр. В. В. Мигородский и казак В. Н. Панасенко сделались жертвой следующей проделки. Желая купить автомобиль, они сделали совместно публикацию в газетах о покупке. По ней явились двое неизвестных: один назывался шоффером и предложил покупку автомобиля. У одного из пришедших были в кармане пиво и полбутылки водки, которой они угостили покупателей. От выпитой водки Миргородский и Панасенко заснули крепким сном. Вытащив у Панасенко из кармана 2000 руб. и в 500 руб. вексель, мошенники скрылись. Когда проснулись „автомобилисты“, то в нумере никого не было».
Тот же «Самарканд» вошел еще в одну историю: «Вчера полиция, получив сведения, что в „Международном“ ресторане двое неизвестных, прячась от других посетителей, достают пачки денег и сушат их на свече, явились в ресторан. Подозрительные посетители успели к появлению полиции ускользнуть. Полиция погналась за ними и задержала в меблированных комнатах „Самарканд“, по проезду Рождественского бульвара. При задержании найдено 760 руб., колода крапленых карт и 3 револьверных патрона».
А 30 октября 1904 года в газете «Русское слово» была опубликована заметка под названием «Странный случай»: «Третьего дня, ночью, В. Михайлов и М. Коровкин проходили по Рождественскому бульвару. Вдруг Коровкин вынул из кармана револьвер и приставил его к виску Михайлова со словами: „Я сейчас тебя убью“. – Михайлов сильно испугался, закричал о помощи. Сбежался народ. Коровкина обезоружили. Револьвер оказался заряженным шестью патронами».
Да уж, случай действительно странный.
И – совсем безобидное: «Вечером 2 февраля кр. Капитон Зобов проходя в нетрезвом виде по Рождественскому бульвару, решил „приударить“ за какой-то миловидной дамой, шедшей под руку с мужчиной. Не предполагая, что последний был мужем незнакомки, уличный „дон-жуан“ стал говорить даме любезности, советуя ей „бросить урода, с которым она идет“. Муж обиделся и попросил Зобова оставить их в покое. Произошли ругань, крик и шум. Явилась полиция и „дон-жуан“ был отправлен в участок».
Здесь же – скорее курьез: «23 февраля содержатель кузнечной мастерской в д. Сретенского монастыря, по проезду Рождественского бульвара, кр. Н. И. Конов нанял работника, который в ночь на 24 февраля обокрал мастерскую и скрылся, оставив у Конова свой паспорт. Когда же Конов предъявил этот паспорт на предмет розыска вора в участок, то там обнаружено, что паспорт этот принадлежит кр. Дарье Кириллиной. 40 лет.
Открывается бульвар домом №3. Здесь, в частности, жил композитор Верстовский, автор популярной некогда «Аскольдовой могилы». А в 1896 году тот дом вошел – точнее, вляпался – в историю. «Московский листок» сообщал: «11 апреля какой-то оборванец, войдя во двор дома Гульшина на Рождественском бульваре, отправился прямо к собачьей конуре, где на цепи сидела собака сеттер, стоящая более пятидесяти рублей и принадлежащая домовладельцу; отвязав цепочку, оборванец с собакою поспешно удалился.
Проделка его была замечена дворником, который погнался за вором и задержал его у Сретенских ворот. Задержанный назвался крестьянином Е-вым и, несмотря на улики, в краже не сознался».
Сеттера, вероятно, вернули владельцам.
Все это – случаи малоприятные. И, к счастью, абсолютно не характерные для одного из уютнейших московских бульваров – Рождественского. Уютнейших и, в общем, не особенно богатых на истории. Краевед В. Никольский писал в книге «Старая Москва» (1924 год): «Оба этих бульвара нечем помянуть историку,» – имея в виду как Рождественский бульвар, так и соседней, Сретенский.
А бытописатель Загоскин рассказывал: «Положим, что вы теперь на Кузнецком мосту, – уж тут, конечно, ничто не напомнит вам о деревне; но сверните немного в сторону, ступайте по широкой улице, которая называется Трубою, и вы тотчас перенесетесь в другой мир. Позади, шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном своем разгуле; одна карета скачет за другою, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах, все дом унизаны великолепными французскими вывесками; шум, гам, толкотня; а впереди и кругом вас тихо и спокойно. Изредка проедет извозчик, протащится мужичок с возом, остановятся поболтать меж собою две соседки в допотопных кацавейках. Пройдите еще несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах и шушунах идут с ведрами за водой. Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мере, не раз встречался с этим интересным животным не только на Трубе, но даже и на Рождественском бульваре. Вероятно, во всех столицах после проливного дождя бывают лужи по улицам, но вряд ли в какой-нибудь столице плавают утки по этим лужам, а мне случалось часто любоваться в Москве этой сельской картиной».
Впрочем, не все так печально. И в 1918 году, сразу же после революции этот бульвар был активно задействован в так называемой ленинской программе монументальной пропаганды. Здесь, рядом с Трубной площадью 3 ноября установили гипсовый памятник поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко работы скульптора С. М. Волнухина.
На церемонии открытия выступила А. М. Коллонтай.
Газета «Коммунар» писала 5 ноября 1918 года: «З ноября, по случаю открытия революционных памятников в Москве, с утра начались рабочие и красноармейские шествия. Особенно привлекли внимание публики памятники Тарасу Шевченко и Максимилиану Робеспьеру. У этих памятников публика толпилась до позднего вечера».
Николай Окунев писал того же 5 ноября 1918 года, но в своем личном дневнике: «3-го ноября в Москве открыты памятники Т. Г. Шевченко, И. С. Никитину, А. В. Кольцову и французскому революционеру Робеспьеру. Собственно, это еще не памятники, а „эскизы“ их. Я видел, например, памятник Шевченко: фигура, кажется, из глины, пьедестал из досок. До первой хорошей непогоды, – и он весь разрушится, без остатка от творчества Волнухина».
Вскоре после установки памятника возник проект изготовления его из более долговечного материала. Однако, скульптор умер, так и не успев реализовать этот проект. А памятник – в соответствии с прогнозами Н. Окунева – тоже развалился, и притом довольно быстро.
Кстати, упомянутый дом №3 не сохранился. Левая сторона бульвара начинается с современного, достаточно безликого строения, построенного уже в новейшее время.
Не осталось ничего и от начала противоположной стороны. Ни магазина «Охотник», ни гомеопатической лечебницы, ничего того, что помнят люди еще, в общем-то, не очень старые.
Общественный туалет в торце бульвара тоже исчез. Он был встроен в крутой холм и считался своего рода городской достопримечательностью.
* * *
Справа – Рождественский монастырь. Мы писали о нем в книге «Прогулки по старой Москве. Рождественка». Можем добавить историю, описанную исследователем московских храмов Петром Паламарчуком: «После закрытия монастыря определенное число послушниц продолжало жить в его келиях. К 1978 г. в живых оставались двое – Варвара и Викторина. В этот год сосед Варвары, по профессии переплетчик, задушил ее, украл несколько малоценных икон и попытался скрыться, но вскоре был пойман и осужден на тюремное заключение сроком ок. 10 лет. Викторину в 1979 г. взяли к себе жить в другой район города сердобольные люди – ей тогда было уже за 90 лет и она почти совсем ослепла.
Год или два спустя на таможне попался пытавшийся провезти за границу церковные ценности спекулянт. Оказалось, что среди этих ценностей находится множество вещей из ризницы Рождественского монастыря. После этого к расследованию обстоятельств убийства Варвары вернулись снова, и тогда при помощи москвоведов и старожилов выяснилось, что она была не простою послушницей, а казначейшей обители и ближайшей подругой последней настоятельницы, которая ей перед смертью передала на сохранение наиболее чтимые святыни. Сосед-переплетчик был лишь подставным лицом большой компании профессиональных христопродавцев, каким-то образом разузнавших эту тайну; «сел» он нарочно с малоценными вещами, чтобы отвести подозрения от главарей.
После вскрытия новых обстоятельств он был переведен в Москву на доследование и оказался вынужден подтвердить все сказанное выше».
Ничего не поделаешь – воровской мир к тому моменту вовсю проник даже в церковные и околоцерковые мирки.
* * *
Не дальше, все по той же, правой стороне, дома №№12, 14 и 16, также вошедшие в указанную книгу. Первый из них то и дело менял владельцев. Сначала здесь жили Голицыны, затем – Фонвизины. Глава семейства Александр Иванович и два его сына, декабристы Иван и Михаил. Именно здесь в 1912 году состоялся исторический съезд «Союза Благоденствия», стоявший у истоков декабризма.
Кстати, супруга Михаила Александровича – Наталья Дмитриевна, урожденная Апухтина – считала себя прототипом пушкинской Татьяны из «Евгения Онегина». До того доходило, что Наталья Дмитриевна часто при знакомствах представлялась Таней. Этим же именем она подписывала письма.
Якобы, когда Александр Сергеевич сочинял свои ставшие хрестоматийными строфы:
Письмо Татьяны предо мною;Его я свято берегу,Читаю с тайною тоскоюИ начитаться не могу… —он держал в руках подлинное письмо, пописанное Таней и составленное Натальей Дмитриевной.
Прямых доказательств тому, разумеется, нет, да их, собственно, и не нужно – этот факт нам ценен именно как легенда общественной жизни Москвы. Зато доподлинно известен ее гражданский подвиг – Наталья Дмитриевна в 1828 году уехала в Читу к своему мужу, сосланному все за те же декабристские дела.
Судьба ее вообще была довольно яркой. Дочь провинциального, костромского помещика Д. А. Апухтина, она была воспитана на светлых, несколько наивных книжных идеалах. Соблазны крупных городов ей были безразличны, зато девушка испытывала нешуточный религиозный экстаз, а также сентиментальную любовь к природе.
Сама она писала про себя: «От матери я унаследовала мечтательность и пытливость, от отца страстную природу, в высшей степени способность любить и ненавидеть. Я была дика и застенчива. Страстно любила свою кормилицу, которая была моей няней… Я была скрытна и несмела, с немногими сближалась, особенно с детьми своих лет. Я искала какой-то высшей чистой человеческой любви».
Ее сибирская знакомая, М. Францева писала о Фонвизиной: «Наталья Дмитриевна была замечательного ума, необычайно красноречива и в высокой степени духовного религиозного развития… В ней много было увлекательного, особенно когда она говорили, что перед ней преклонялись все, кто слушал ее. Она много читала, переводила, память у нее была громадная; она помнила все сказки. которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела хорошо, картинно представить все, что видела и слышала, что самый простой рассказ, переданный ею, увлекал каждого из слушателей. Характера она была чрезвычайно твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем необычайно веселого, несмотря на то что жила больше внутренней жизнью, мало обращая внимания на суждения или пересуды людские».
В 1869 году дом переходит к Надежде Филаретовне фон Мекк, известной как покровительница композитора Чайковского. Тот нередко гостил у нее. Но это не был роман в общепринятом смысле слова. Композитор великодушно позволял любить его (и, что греха таить, поддерживать материально). Надежда же – сорокалетняя вдова и мать одиннадцати детей – была и вправду влюблена как кошка. Когда же Чайковский женился, писала ему: «Когда Вы женились, – вспоминала баронесса в своем письме несколько лет спустя, – мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца».
Денежные поступления, разумеется, разумеется, не прекращались – пока Надежда Филаретовна ни написала Петру Ильичу о наступившем неожиданно финансовом крахе. В общей же сложности материальная поддержка продолжалась на протяжении 13 лет.
Кстати, именно при Надежде фон Мекк здание преобразилось до неузнаваемости – был расширено до 50 комнат, а фасад его украсили два льва.
В 1880 году здесь жил Генрик Венявский, знаменитый польский композитор и скрипач. Много концертировал в Москве и в Петербурге, а здоровье его становилось все хуже, и хуже, и в том же 1880 году в том же доме фон Мекк он скончался – испорченное сердце не перенесло пневмонию. Смерть была предрешена. Чайковский писал Надежде Филаретовне: «Меня глубоко трогает призрение, которое Вы оказали бедному умирающему Венявскому. Последние дни его будут скрашены Вашими заботами о нем. Очень жаль его. Мы потеряем в нем неподражаемого в своем роде скрипача и очень даровитого композитора. В этом последнем отношении я считаю Венявского очень богато одаренным, и, если б судьба продлила его жизнь, он мог бы сделаться для скрипки тем же, чем был Вьетан. Его прелестная легенда и некоторые части d-mоll’-ного концерта свидетельствуют о серьезном творческом таланте».
В 1881 году дом снова поменял владельца. Им стал чаеторговец Алексей Семенович Губин, прославившийся не столько своей жизнью, сколько смертью. Кто-то пустил слух, что в этот скорбный день в воротах дома будут раздавать щедрую милостыню. Разумеется, нищие первопрестольной, а также ближайших уездов собрались здесь в огромном количестве, началась давка, многие были задавлены намертво.
После чего дом, от греха подальше, продан был наследниками Дворянскому земельному банку.
* * *
Дома по левой стороне, достойные внимание, тоже вошли в упомянутый путеводитель. А за ними – исключительный, особенный московский мир, мир сретенских переулков.
Сама улица Сретенка известна тем, что не имеет на своей красной линии ворот и арок. Это сделано из экономических соображений. Сретенка издавна развивалась как торговая улица, и купцы использовали каждый метр для привлечения покупателей. Хозяйственная жизнь велась исключительно со стороны переулков. Которые, конечно же, располагались параллельно друг другу и на небольшом расстоянии – это обеспечивало доступ ко всем зданиям на самой Сретенке. Здесь также существует уникальная система московских проходных дворов и всевозможных маленьких уютных двориков. Многое, конечно же, за последние годы исчезло (и теперь не получится, как совсем еще, казалось бы, недавно, пройти от Бульварного до Садового кольца, не выходя ни на одну радиальную улицу. Но многое, все равно, сохранилось.
Одна из серьезных утрат – церковь Сергия в Пушкарях. Она располагалась в Большом Сергиевском переулке, на месте нынешнего дома №6. Храм был известен еще в 1547 году и являлась слободской церковью пушкарей. Звания и статусы окрестных жителей (и, соответственно, прихожан этого храма) – целая песня. Артиллерии фузилер, артиллерии фершал, артиллерии пороховой мастер и в огромном количестве «вдовы пушкарские».
Впрочем, эти времена давно прошли. И уже в девятнадцатом столетии окрестности Сергия в Пушкарях пользовались недоброй славой криминальных московских трущоб. А в газетах то и дело попадались сообщения приблизительно такого содержания: «12 октября в ограде церкви св. Сергия, что в Пушкарях, в Колокольниковом переулке, найден сверток, в котором оказался труп недоношенного младенца мужского пола».
После революции в церкви какое-то время продолжали служить. Правда, не обошлось без перемен. Московский обыватель Н. П. Окунев писал: «Был за всенощной у Сергия в Пушкарях. Все новшества: служивший там протодиакон Остроумов (получивший „гонорара“ за участие во всенощной и за обедней 30.000) сбрил себе не только бороду, но и усы, остриг себе на голове волосы, как сотрудник чрезвычайки, и, послуживши до пения ирмосов, снял свои священнослужительские облачения, надел английское щегольское пальто, взял в руки шляпу-панаму и вышел из церкви. Но при этом служил очень истово; читал и пел „с чувством“, так что и не поймешь, что это – от чистого сердца или актерство своего рода?»
Шел 1920 год. Наступали очень тяжелые времена.
Храм был снесен в 1935 году. Поначалу здесь намеревались выстроить гигантский клуб (подобные замены в те времена практиковались), но затем ограничились банальной коробкой.
Впрочем, не все и не всегда в тех переулках было благостным. В частности, во второй половине позапрошлого столетия здесь находились самые опасные кварталы так называемого «городского дна», известные под неофициальным названием «Грачевка». В. А. Гиляровский писал: «В свободный вечер попал на Грачевку.
Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров – постоянных посетителей скачек – и кой – кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки», или «Безымянки», как ее еще иногда называли.
К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники; когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни.
В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань…
Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочиста и выбрасывают на пустыре.
Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену».
В результате Гиляровского чуть было не ограбили, предложив выпить так называемой «малинки» – специально для подобных случаев приготовленной смеси пива и какой-то отравы. Спасся Владимир Алексеевич, как говорится, чудом. И, когда спасся, первым делом написал в свою газету репортаж.
Неравнодушным к описанию здешних притонов был и приятель Гиляровского Антон Павлович Чехов. Он посвятил Грачевке свой рассказ «Припадок». Там, правда, действуют студенты, да и особых злодеяний нет. «Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок – звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:
– Как много домов!
– Это что! – сказал медик. – В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.
Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой… И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.
– Начнем с самого начала, – сказал художник.
Приятели вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло, как в прачечной, и, кроме того, еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.
– Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травиата! – начал художник, театрально раскланиваясь.
– Гаванна-таракано-пистолето! – сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь».
На протяжении всего рассказа милая компания перемещалась из одного «дома терпимости» в другой, и все закончилось нервным припадком самого неискушенного из них.
Чехов знал, о чем пишет – он в то время жил в двух шагах от Грачевки.
А Владимир Гиляровский в свойственном ему спокойном тоне изложил механизм функционирования здешних кварталов: «Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.
Характерно, что на всех таких дворах не держали собак… Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих «дам» «коты». Из последних притонов вербовались «составителями» громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали…