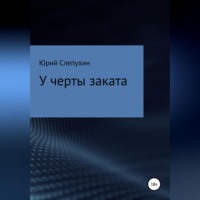Полная версия
Перекресток

Юрий Слепухин
Перекресток
Пролог
Уже пятый час без остановки, подхлестываемые стремительными взмахами шатунов, бешено крутились высокие – в полтора человеческих роста – колеса мощного коломенского паровоза. Открытые семафоры проносились мимо; путь был свободен – он летел под колеса километр за километром, холодно и безучастно отсвечивая синеватым блеском металла. Над полотном железной дороги, над желтыми от суглинка полями и поросшими бурьяном оврагами висел густой осенний туман.
Южный экспресс вышел из Москвы на рассвете. Позади остались редкие группы провожающих на перроне, лачуги и новостройки предместий, дымные корпуса, трубы, штабеля угля, мокрые дощатые платформы пригородных станций, дачки с резными мезонинами и стальные мачты высоковольтных линий. Экспресс торопился; его длинное членистое тело, составленное из десяти темно-синих пульманов, содрогалось от нетерпения и мускулисто выгибалось на поворотах пути, чтобы – снова распрямившись стрелой – дальше и дальше со всего размаха вонзаться в туман, оставляя за собой быстро глохнущий грохот и разорванные клочья дыма, медленно оседающие на полотно.
Шел тридцать шестой год, и была осень – холодное октябрьское утро тысяча девятьсот тридцать шестого года.
В длинном лакированном коридоре было тихо. Ритмично покачивались занавески, ровно блестел ряд начищенных дверных ручек; не нарушая тишины, делая ее лишь более ощутимой, из одного купе доносились негромкие голоса да под ковровым настилом пола глухо и безостановочно рокотали колеса.
Военный с двумя шпалами на черных петлицах, вышедший в коридор покурить, стоял у окна, пошатываясь в такт работе рессор и время от времени точным жестом поднося к губам папиросу. За толстым стеклом, затуманенным осевшей влагой, с утомительным однообразием взлетали и медленно опадали телеграфные провода, мелькали столбы, косо перечеркнутые поперечинами с аккуратными рядками зеленых стеклянных изоляторов. Подальше – на самой границе тумана, белесой стеной подступившего к полотну, – реже и медленнее пробегали потемневшие от непогоды шалашики, составленные из решетчатых щитов снегозадержания.
Когда-то они с братом каждый год в конце лета тоже строили себе шалаш – оперативную базу для глубоких рейдов по окрестным садам. Помешанный на индейцах, Виктор называл это вигвамом. Странно, что даже сейчас – почти тридцать лет спустя – он отлично помнит еще запах "вигвама": сенокосный аромат вянущей травы, наваленной на каркас из жердей, и прохладный – награбленной антоновки…
Да, почти тридцать лет. А теперь от брата осталось только это непонятное существо, сидящее там, в купе, да обведенная черным заметка: "Народный комиссариат тяжелого машиностроения с прискорбием извещает о кончине Виктора Семеновича Николаева, главного инженера Востсибмашстроя, погибшего при исполнении служебных обязанностей 29 сентября 1936 года".
В последний раз они виделись четыре – или три? – нет, четыре года назад. Виктор заехал к нему на одну ночь, возвращаясь из очередной поездки в Америку, и привез подарки – хитро устроенную американскую трубку с прозрачным мундштуком и бутылку хорошего французского коньяка. Трубка была потеряна очень скоро, на осенних тактических занятиях, а коньяк они тогда выпили вдвоем, пока Виктор рассказывал свои впечатления об американских заводах. Утром, уже на вокзале, он спросил Виктора о наследнице. "Растет, – ответил тот, – не по дням, а по часам. Приедешь в Москву раз в год, и смотришь – Татьяна это или не Татьяна. Нянька жалуется – озорница, говорит, такая, что просто беда. А в общем, жаль девочку. Матери нет, отец превратился в отвлеченное понятие…"
Затянувшись в последний раз, майор взялся за ручку окна. Рама плавно и тяжело скользнула вниз, в покойное тепло коридора ворвался вместе с ураганным грохотом колес холодный ветер, насыщенный сыростью и сернистым запахом паровозного дыма.
Жаль, что Анна Сысоевна не смогла поехать вместе со своей воспитанницей. Конечно, в ее возрасте это уже сложно. А теперь он, сорокалетний холостяк, давно получивший от подчиненных лестное прозвище "костяной ноги", должен – что? Бегать по городу и искать няню? Или самому браться за воспитание племянницы? Экое ведь нелепое положение, будь оно неладно. С парнишкой было бы уж куда проще, что и говорить. И то трудно! Но девочка…
– Ну ладно, нечего разводить панику, – вслух пробормотал майор, закрывая окно. – Не отдавать же родную племянницу в детдом!
Щелчком сбив пушинку с рукава кителя, майор отодвинул дверь купе. Племянница – худенькое круглолицее существо в пионерском галстуке – сидела с поджатыми ногами в уголку дивана. Майор с сожалением заметил, что купленные в Москве журналы так и лежат на столике нетронутой стопкой. Их было много: не зная в точности, что обычно читают в тринадцать лет, он взял на всякий случай все, что было в вокзальном киоске, – "Огонек", "Костер", "Мурзилку", "Крокодил" и "Пионер". Очевидно, нужно было взять что-то другое, экая история…
– Ну вот, Татьяна, – неопределенно сказал он, усевшись на диванчик напротив, – можно сказать, путешествуем?
В сотый раз, но с тем же чувством недоумения, что и впервые, смотрел он на племянницу – собственно говоря, теперь уже дочку. С одной стороны (насколько он понимал), все было как полагается – круглые, совершенно невероятных размеров глаза, нос пуговкой, еще лоснящийся от утреннего умывания, косички с черными бантами. Банты эти, как и снежная белизна блузочки и отлично отутюженная плиссированная юбка с перекрещенными сзади бретелями, хранили еще прощальную заботу Анны Сысоевны, обряжавшей вчера свою воспитанницу в дальний путь. Что ж – девочка как девочка. Но, с другой стороны, разве это не загадка – посложнее всех тех, с которыми ему приходилось до сих пор иметь дело? Перед его отъездом из Энска директор той школы, куда он ходил договариваться насчет Татьяны, посочувствовал его положению и отчасти успокоил его, сказав, что на девочку будет обращено в школе особое внимание; что же касается воспитания внешкольного, директор посоветовал ему почитать некоего Макаренко – или Макарченко? – по его словам, это был большой специалист по таким делам. В Москве майору удалось после долгих поисков купить "Книгу для родителей"; заглавие его немного ободрило, и на эту книгу он возлагал сейчас единственные свои надежды.
Задав племяннице нелепый вопрос, он тотчас же устыдился, вспомнив слышанное от кого-то мнение, что дети отлично разбираются – когда с ними говорят всерьез и когда просто так, чтобы что-то сказать. И действительно, племянница в ответ промолчала – как ему показалось, укоризненно.
– Когда мы приедем, дядя Саша? – в свою очередь спросила она через минуту, сильно картавя и произнося два последних слова совсем слитно, так что получилось "п'иедем" и "Дядясаша".
– Ну, не так уж скоро, Татьяна! – оживился майор. – Не раньше полуночи, я думаю. Это если без опоздания, поезда сейчас ходят черт знает как. Что, брат, надоело?
– Я немножко устала, Дядясаша, – пожаловалась девочка, – все сидишь и сидишь… и потом жалко, что туман – ничего не видно…
– Да, туман – это несколько э-э-э… непредвиденное обстоятельство, – отозвался майор, мучительно думая, о чем бы еще поговорить.
Нужно было тщательно избегать упоминания об Анне Сысоевне. Прощаясь с ней на вокзале, Татьяна рыдала истерически, и понадобилось очень много неумелых усилий с его стороны, чтобы кое-как успокоить племянницу, убедив ее в том, что расстается она с няней всего на несколько месяцев, а летом уедет к ней в Звенигород на все каникулы, до осени. Нельзя было говорить и о Викторе, хотя – как это ни печально – смерть отца Татьяна восприняла едва ли не легче, чем разлуку с няней. Впрочем, можно ли винить за это девочку, если отец появлялся дома раз в год, а то и реже?
Анна Сысоевна рассказывала ему об этих посещениях. Виктор обычно прилетал в Москву на какую-нибудь неделю, из которой семь дней проводил в трестах и главках, а домой забегал лишь для того, чтобы взглянуть на спящую дочку, оставить возле ее кроватки кучу конфет и игрушек и самому соснуть несколько часов в своем пропахшем пылью и старыми бумагами кабинете, среди развешанных по стенам фотографий строящихся цехов. А впрочем, может быть, все это оказалось сейчас и к лучшему – для Татьяны. По крайней мере, она не слишком травмирована случившимся…
Майор перевел дыхание, почти физически ощутив вдруг тяжесть газетной вырезки, спрятанной в бумажнике в нагрудном кармане. Эх, Витя, Витя, так и не удалось им за все эти годы выкроить хотя бы неделю совпадающих отпусков, чтобы поехать порыбачить в родных местах под Воронежем…
Да, как-то очень по-разному сложились их судьбы, с самого начала. Насколько буднично и просто шло все у него самого – один курс Политехнического, потом школа прапорщиков, Февраль, Октябрь, гражданская война, академия и служба по сей день, – настолько яркой казалась ему всегда жизнь Виктора. Тот успел окончить институт в семнадцатом и сразу же после демобилизации в двадцать втором начал работать по специальности. Через год женился – очень счастливо, по любви, – и вообще, казалось, не было ничего, в чем бы ему не везло в те годы. Майор – он тогда еще им не был и готовился в академию – часто бывал у брата в реквизированном особняке на Неглинной, где тот занимал половину роскошного зала с фанерной перегородкой и расковырянным на топливо паркетом. Ни раньше, ни после того ему ни разу не приходилось больше видеть таких счастливых людей, какими были тогда Наташа и Виктор…
Потом Наташа умерла от воспаления легких, простудившись во время лыжной прогулки в Сокольниках; Виктор к тому времени стал уже довольно известным специалистом и работал с Бардиным на Магнитострое. Возможно, именно работа помогла ему перенести удар. Потом его имя стало все чаще мелькать в газетах. Фотографии инженера Николаева в окружении очень высокопоставленных лиц, ордена, командировки в Америку. В свои сорок два года он был назначен главным инженером строительства Восточно-Сибирского завода тяжелого машиностроения. И наконец срочный вызов в Москву и эта нелепая авария над тайгой…
– Дядясаша… а почему люди умирают? – задумчиво глядя в окно, спросила вдруг племянница, и майора почти испугало такое необыкновенное совпадение их мыслей.
– Ну, как то есть почему… – смешался он. – От разных причин, Татьяна…
– Нет, я не про то, Дядясаша, – терпеливо, как говорят с маленьким, возразила Таня, – а вообще, почему это нужно, чтобы умирали?
Майор озадаченно пожал плечами.
– Это, Татьяна… ну как бы тебе сказать… это уж такой закон существования…
Племянница долго молчала. Потом она отвернулась от окна, и майор увидел, что на ее ресницах блестят слезинки.
– Ну вот, – огорченно сказал он, – а мы договорились не плакать… что ж это ты, Татьяна? Нехорошо, нехорошо… а ну-ка, повернись ко мне…
Достав платок, майор осторожно и неумело отер ей слезы.
– Нехорошо быть плаксой, – сказал он назидательно, – это, брат, просто ни на что не похоже – плакать в тринадцать лет. Ты бы вот лучше подумала о том, как будешь учиться, какие у тебя будут новые подруги и тому подобное… сегодня у нас что – среда? Ну что ж, завтра ты будешь отдыхать, хорошо выспишься, а в пятницу можно будет сходить в школу – познакомлю тебя с директором, он тебе скажет, в каком классе будешь заниматься…
Племянница кивнула и вытерла кулачком глаза.
– А в какой школе я буду учиться, Дядясаша? – спросила она вздрагивающим еще голоском.
– В отличной школе, Татьяна, – весело ответил майор, принимая более непринужденную позу. – Такая, понимаешь ли, сорок шестая средняя школа, совсем недалеко от дома. Красивое новое здание, и директор произвел на меня хорошее впечатление… Кстати – у вас там какой был язык, из иностранных?
– У нас немецкий, Дядясаша… это в двести десятой был французский, а нас хотели перевести на английский, а потом так и оставили с немецким…
– Ну прекрасно, там тоже немецкий, видишь, как удачно. У тебя как с этим делом?
– Годовая была "хор", Дядясаша, потому что я списала контрольную и мне снизили в четверти…
– Вот так после этого и списывай, – сочувственно сказал майор. – Ну, ничего. А с украинским, я думаю, ты тоже справишься…
– С каким украинским, Дядясаша? – озабоченно спросила племянница.
Майор смутился, словно он сам был виноват в том, что девочке придется учить лишний язык.
– Энск ведь находится на Украине, Татьяна, ну и… там приходится изучать украинский язык…
– Ой, – испуганно пискнула племянница. – А это трудно?
– Нет, что ты. Это же почти как русский. Так, маленькая есть разница, а в общем похоже… Войдите!
Дверь откатилась, в купе заглянул бритоголовый толстяк в галифе и темно-синей гимнастерке.
– Товарищу майору с племянницей! – возгласил он сипловатым, чуть придушенным голосом. – Не побеспокоил?
– Приветствую вас, Петр Прокофьич. – Майор встал и жестом пригласил толстяка садиться. – Прошу!
Они были немного знакомы по Энску – встречались иногда на городских партконференциях; а сегодня ночью в Москве Петр Прокофьич появился у вагона как раз в тот момент, когда Таня прощалась с Анной Сысоевной, и сочувственно осведомился у майора о причине слез молодой гражданочки. Оказалось, что он возвращается из командировки и даже едет в этом же третьем вагоне.
Обменявшись рукопожатием с майором, толстяк повернулся к Тане и с неожиданным проворством подмигнул заплывшим глазком.
– Как самочувствие, девушка?
Таня очень удивилась про себя странному обращению, но не подала виду.
– Хорошо, спасибо, – вежливо ответила она. – А как ваше?
– Ну, мое всегда – на большой! А вы, значит, уже вошли в норму? Вот это правильно, это по-пионерски!
Подмигнув еще раз, толстяк достал из кармана завернутого в серебряную бумажку зайца.
– Премия за высокие показатели, – пояснил он, ставя зайца на столик.
– Ой какой симпати-и-ичный… – восхищенно протянула Таня. – Его просто жалко есть, правда! Спасибо…
– Кушайте на здоровье, девушка, только зубки берегите. Александр Семеныч, я, собственно, по вашу душу… – Петр Прокофьич заговорщицки понизил голос до сиплого шепота. – В моем купе, понимаете ли, составилась пулечка, и для полного кворума не хватает только вас. Как вы насчет того, чтобы провернуть это дело? Этак, знаете ли, без волокиты, большевистскими темпами, а?
Приглашение пришлось кстати, – честно говоря, майор уже не знал, о чем еще можно поговорить с Татьяной. Карты так карты, за неимением лучшего.
– Это можно, отчего же не провернуть. Татьяна, ты не возражаешь, если я тебя оставлю на часок в одиночестве? Наш разговор мы продолжим позже. Ты не боишься одна?
– Что ты, Дядясаша!
– Ну, отлично. Вот этой кнопкой вызовешь проводника, если тебе что-нибудь понадобится…
Несмотря на большевистские темпы, пулька в купе Петра Прокофьича продолжалась и после обеда, до самого вечера. За ужином в вагоне-ресторане Таня сидела совсем сонная, поминутно роняя вилку. Когда какой-то военный в высоком звании прошел мимо них, небрежно ответив на майорское приветствие, она почувствовала обиду за своего Дядюсашу и оживилась.
– Он главнее тебя, да? – спросила она, проводив обидчика укоризненным взглядом.
– Кто именно? – не понял майор.
– Ну, вот этот, что прошел…
– А, ну разумеется. Ты же видела, он носит в петлицах ромб, а я – две шпалы, следовательно, он старший по званию. Погоди-ка, у тебя с мясом ничего не получается, дай я тебе порежу на кусочки…
– Нож очень тупой, Дядясаша. А мне нельзя пива?
– Нет, девочки пива не пьют. Взять тебе ситро?
– Угу. А мальчишкам пиво можно?
– Несколько постарше… Девушка, будьте добры бутылочку ситро…
– Нету ситра, – равнодушно бросила официантка.
Майор обескураженно посмотрел на племянницу.
– Плохо дело, Татьяна. Очень хочется пить?
– Нет, Дядясаша. Мне очень спать хочется. Дядясаша, а почему тебе не дали ромба?
– Такой уж, брат, у меня характер.
– Плохой?
– Видно, плохой.
– Значит, ты пошел в меня, – подумав, сказала Таня. – Анна-Сойна говорит, что у меня характер шкодливый, правда.
Майор поперхнулся пивом, плечи его задрожали от смеха. Таня вздохнула и озабоченно сморщила нос.
– Дядясаша, я тебе еще не сказала… мне годовую по поведению чуть не снизили на "посредственно". Это потому, что мы с мальчишками стреляли на уроке такими бумажками, знаешь, такими сложенными, вот так. – Таня выставила рогаткой два пальца левой руки и правой натянула воображаемую резинку. – И я попала в учителя…
– Это, брат, нехорошо.
– Конечно, – опять вздохнула Таня.
Провожая племянницу обратно в купе, майор вел ее, обняв за плечи, – она уже совсем засыпала. Впрочем, в тускло освещенном тамбуре Таню отрезвили грохот и ледяной сквозняк из неплотно сомкнутых гармошек перехода. Прежде чем ступить на покрытые вафельной насечкой, с лязгом ворочающиеся под ногами железные плиты, она с беспокойством глянула на дядьку, снизу вверх, и прижалась к его руке.
– Смелее, Татьяна, – подбодрил майор, – держись за меня и не бойся… да ты, брат, трусиха, оказывается, изрядная…
Доверчивое движение девочки его растрогало. "Старый ты пень, – обругал он себя, вспомнив свои утренние сомнения, – костяная нога и есть, ничего другого про тебя не скажешь…"
– Хочешь спать? – спросил он, открывая дверь купе. – Впрочем, скоро мы приезжаем, пожалуй, уже нет смысла…
– Нет, у меня уже весь сон прошел, – бодрым голоском ответила племянница и зевнула. – Я лучше немножко посмотрю журналы…
– Ну отлично. Я пойду покурю пока.
Он выкурил подряд две папиросы, прошелся по коридору, поигрывая сцепленными за спиной пальцами. Потом выглянувший из купе Петр Прокофьич снова затащил его к себе, затеяв долгий разговор о событиях в Испании. Когда майор вернулся к племяннице, та уже мирно спала, свернувшись калачиком. Возле ее носа, на открытой странице журнала, лежал шоколадный заяц с откушенным хвостом.
Огибая аэродром, поезд описывал широкую дугу, и в залитом дождем окне плыла, ширясь, мерцающая россыпь огней Энска. Майор снял чемоданы с багажной полки, собрал журналы, аккуратно завернул в серебряную бумажку бесхвостого зайца. Покончив со сборами, он долго стоял над племянницей, глядя на ее порозовевшую от сна щеку, освещенную теплым светом лампочки.
– Татьяна, – позвал он негромко, тронув ее за плечо. – Татьяна, вставай-ка, брат, подъезжаем…
С трудом приведя Таню в состояние относительного бодрствования, он подал ей пальтишко, неумелыми движениями помог завязать шарф и оделся сам, рассовав журналы по карманам плаща.
Замедляя ход, экспресс ворвался в лабиринт подъездных путей энского вокзала. Вагон мотало на громыхающих стрелках, за окном – уже неторопливо – пробегали красные и зеленые огни, ряды вагонов, водокачка, проплыла темная туша отдыхающего на запасном пути паровоза, возле которого делал что-то человек с дымно-красным факелом.
– Ну, вот мы и дома, – бодро сказал майор, когда мимо окна замелькали лица встречающих на ярко освещенном перроне.
Несмотря на поздний час, на привокзальной площади было еще людно. Шел дождь. В мокром асфальте отражались высокие молочные фонари и красные фонарики пробегающих машин. Коренастый боец в черном бушлате танкиста откозырял майору, пожал ему руку и, подмигнув Тане, забрал у носильщика чемоданы.
– Сюда, товарищ майор, пришлось в сторонке стать – хотел ближе, так не дали… здесь постовой сегодня такой вредный, нет спасения, я его давно знаю – еще до призыва, я в Заготзерне на полуторке работал – так он одной крови сколько мне спортил, это просто неимоверно сказать…
– Милиция знает, кому кровь портить, – проворчал майор, – ты, брат, лихач известный.
Они подошли к защитного цвета газику с поднятым брезентовым верхом. Боец поставил чемоданы и открыл заднюю дверцу.
– На попа их, Нефедов, вот так… ну, Татьяна, полезай-ка. Не мешают?
Захлопнув за племянницей дверцу, майор подергал ее и, подбирая полы плаща, полез на переднее сиденье, – машина скрипнула и накренилась.
– Газуй теперь, Нефедов, – сказал он, устраиваясь поудобнее и закуривая.
Таня прижалась носом к холодному целлулоиду, по которому снаружи сбегали извилистые дождевые струйки. Витрины были уже погашены, и улицы казались темными. На одном из перекрестков впереди вспыхнул красный глаз светофора – газик остановился, нетерпеливо пофыркивая и содрогаясь. Дядясаша, закинув локоть за спинку сиденья, очень тихо разговаривал с водителем, на ветровом стекле маятником мотался рычажок "дворника", с каждым взмахом оставляя за собой широкий прозрачный полукруг, сразу же опять покрывавшийся сверкающим водяным бисером. Сонно шуршал дождь по брезентовой крыше. Вздохнув, Таня поплотнее вжалась в угол сиденья и закрыла глаза.
Когда ее разбудили, машина стояла уже в другом мосте. Таня вылезла, протирая кулачками глаза и зевая. Улица была широкой, налево поскрипывали от ветра голые черные деревья, направо высился большой кирпичный дом, немного похожий на ее, московский. Косая сетка мелкого осеннего дождя летела перед молочными шарами фонарей.
– Ну, Татьяна, – сказал майор, – на этот раз мы уже окончательно дома. Идем-ка, брат…
Следом за несшим чемоданы водителем они поднялись на четвертый этаж и остановились на площадке. Майор отпер дверь, протянул руку в темноту и щелкнул выключателем.
– А ну-ка, Татьяна… вот и наше жилище. Нравится?
Таня обвела глазами огромную комнату с тремя высокими, закругленными вверху окнами. Черный кожаный диван, канцелярский шкаф с книгами, письменный стол и пара кресел неуютно стояли вдоль стен, почти не занимая места. С лепного потолка свисала на длинном голом шнуре очень яркая лампочка, прикрытая прогоревшим с краю бумажным фунтиком.
– Ну, так как же? – повторил майор, внося в комнату чемоданы.
– Ничего, Дядясаша, – ответила Таня вежливо и не совсем искренне. – Окна совсем как во Дворце пионеров…
– Верно, – улыбнулся майор, – как во дворце. Я эту комнату так и называю – "тронный зал".
– А ты один здесь живешь?
– В принципе да. А что?
Таня пожала плечиками.
– Слишком пусто, и мебели совсем нет…
– А, это мы все устроим… я вот завтра с утра позвоню в КЭЧ, пусть-ка они нам что-нибудь сообразят насчет обстановки. Это уж я оставляю на твое усмотрение, теперь ты хозяйка. Ты пока раздевайся, а я взгляну, не спит ли наша мать-командирша.
Таня сняла пальто и галошки и принялась рассматривать развешанные по стенам карты и непонятные таблицы, потом забралась с ногами на диван и зябко поежилась. В большой неуютной комнате было холодно, пахло старыми газетами и застоявшимся табачным дымом, по стеклам ничем не занавешенных окон барабанил дождь. Откуда-то издалека доносилась негромкая печальная музыка. Диван был холодный, как большая черная лягушка; Тане вдруг очень захотелось плакать. В эту минуту за дверьми послышались шаги и голос Дядисаши, и он вошел в комнату, пропустив перед собой толстую старуху.
– Прошу, это вот и есть моя знаменитая московская племянница. Татьяна, познакомься с Зинаидой Васильевной, сейчас мы пойдем к ней что-нибудь перекусить, а то у меня здесь ничего нет…
– Так это вот и есть Татьяна! – басом закричала старуха. – Да взрослая-то ты какая, батюшки мои, вовсе уж девка! К нам, значит, на жительство? И верно, Татьяна, уж мы тут с тобою заживем на славу – я и сама все дочку хотела, так нет же – как на грех, один сын, другой сын, тьфу ты пропасть!
Старуха была толстой, доброй и веселой – напоминала даже Анну-Сойну. Таня почувствовала к ней доверие.
– А дядька-то твой, слышь, учудил! – продолжала та. – Найдите мне, говорит, нянюшку для племянницы! Да ты сдурел на старости лет, Семеныч, ей-право сдурел. Девке скоро замуж собираться, а он – нянюшку! Господь с тобой, Семеныч, и выдумал же! Коли что надо – я присмотрю, за это не бойся. Даром ты, что ли, моих сынов в армии воспитывал, а? Не бойся за девку, Семеныч, воспитаем и ее. Вот домработницу хорошую я тебе найду, приходящую, это нужно. Раз дите в доме завелось – нужно, спорить не стану. Сама-то небось хозяйновать не умеешь? Ну и верно, тебе это покамест и ни к чему, научишься еще, как время придет, намаешься. Ну, пошли, что ль. Чего поздно-то так, опять небось поезд опоздал? А я и спать не ложилась – что там, думаю, у Семеныча за племянница такая… глазком хотя поглядеть. Спать нынче у меня будешь, слышь, Татьяна? Дядька-то твой разве чего приготовит, да и что с него взять, с бобыля…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
То, что Сережка Дежнев остался досиживать второй год в девятом классе, было вызвано просто глупейшим стечением обстоятельств. И ведь до чего обидно – раньше, в седьмом, в восьмом, он вообще не учился, хулиганил, молоденькую преподавательницу литературы довел однажды до слез – и ничего, переползал-таки из класса в класс, с грехом пополам натягивая в годовой ведомости переходной минимум. Правда, в пятом он тоже сидел два года, но это было давно; позже ему как-то все сходило с рук. А теперь не сошло – именно теперь, когда учеба, бывшая до сих пор скучной повинностью, стала вдруг главным в жизни! И если вспомнить сейчас, как это получилось, – так просто плюнуть хочется, до чего глупо…