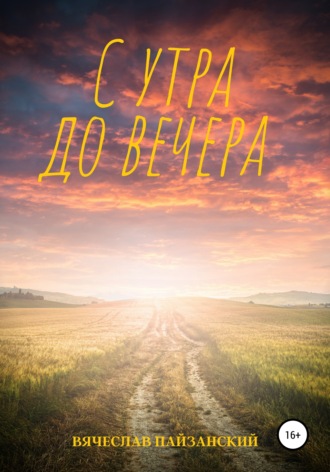 полная версия
полная версияС утра до вечера
Ему не нравилась новая экономическая политика, введенная Лениным, он высмеивал ее открыто в красноармейской среде и вообще не скрывал своих политических взглядов и своей неприязни к командному составу, особенно из бывших офицеров.
На общеполковых, батальонных и ротных собраниях Муравьев внушал красноармецам и политработникам, что все «военспецы» – враги, их надо держать под неослабным контролем. А на одном полковом собрании договорился до следующего: беспартийная масса – это «болото, куда партия сливает свои помои». Возражающих не было – все боялись возражать, хотя сочувствующих он находил только в небольшой группе подхалимов из политсостава.
Поощряемый молчанием командира полка и вообще командного состава, а также коммунистов, Муравьев стал безобразно вести себя в полку, как единоличный начальник, не считался с командиром полка, кричал на командиров, позволял себе ругать их площадной бранью и налагать на них арест, с содержанием приденежном ящике под охраной часового-красноармейца, что было явно незаконно и казалось неслыханным издевательством.
Командир полка Муран в мягкой форме объяснил Муравьеву, что этого делать не следует, так как нарушает устав внутренней службы, привелегии комсостава и подрывает его авторитет.
В ответ на это Муравьев с помощью десятка молодых коммунистов из краскомов (окончивших командные курсы и военные училища в советское время) и красноармейцев арестовал ночью на квартире командира полка и поместил его на гауптвахте, приставив к его камере особый караул. Через полчаса после ареста командира полка начальник караула гауптвахты вызвал начальника штаба полка Койранского. Несмотря на ночь, он сейчас же прибыл на гауптвахту, поговорил с Мураном и отправился в город, вызвал по прямому проводу командующего войсками области и сообщил ему о самоуправстве Муравьева.
Понятно, что доклад Койранского вызвал возмущенье штаба и не успел Койранский вернуться из города в полк, как на имя Муравьева был получен телеграфный приказ командующего о немедленном освобождении из-под ареста командира полка Мурана.
После этого случая Муран, естественно, не мог оставаться командиром 2-го Туркестанского стрелкового полка, не мог и не хотел служить в одной части с Муравьевым. Через неделю он был переведен в Ашхабад командиром 1-го Туркестанского полка, а вместо него был назначен командир 1-го Туркестанского полка Пилиневич, ранее бывший помощником командира полка в Мерве.
Муравьеву арест командира полка сошел безнаказанно, и он продолжал свою старую линию.
Командный состав полка был буквально терроризован. В полку царили вечное беспокойство и страх.
Муравьев пьянствовал, наслаждался кокаином и пьяный себе всяческие хулиганства в отношении командного состава, к которому и без того относился крайне вызывающе.
Муравьеву понравилась жена командира 5-й роты Иевлева. Он стал ее преследовать. Днем ей нельзя было выйти из дома. Вечерами только с мужем она могла выходить на воздух.
Муравьев несколько раз ломился в квартиру Иевлевых, но попасть не мог.
Тогда он решил удалить мужа и приказал начальнику штаба полка Койранскому отправить Иевлева куда-нибудь в командировку на несколько дней. Койранский отказался это сделать.
Тогда Муравьев издал приказ об аресте Иевлева, с содержанием при денежном ящике в штабе полка. Койранский запретил начальнику караула принимать арестованного офицера и написал рапорт комиссару полка, что он не может допустить беззакония у себя в штабе полка. В ответ на рапорт Койранского Муравьев явился в штаб полка, приказал Койранскому сдать ему оружие и объявил его арестованным.
Койранский сдал оружие и без сопротивления отправился в Особый Отдел штаба бригады, сопровождаемый четырьмя краскомами и секретарем комиссара. Штаб бригады находился в городе. Особый Отдел штаба бригады получил секретный пакет и арестованного, которого поместил не в арестном помещении, а в отдельной комнате штаба бригады, которому Койранский был хорошо известен.
Арест начальника штаба вызвал переполох в полку: командиры собрались на собрание, полетели телеграммы в штаб войск области и в штаб фронта. Командир полка по прямому проводу потребовал немедленно вызвать комиссию из штаба войск области для расследования и прекращения безобразий комиссара полка.
И в Особом Отделе Штаба Бригады началось следствие по обвинению Койранского в контрреволюции, согласно донесения комиссара полка Муравьева.
Койранский рассказал о всех «художествах» комиссара, о его пьяных оргиях, насилиях, о его антипартийных взглядах.
Следствие началось и в полку. Командный состав показывал то же, что и Койранский и даже прибавил много такого, чего Койранский не знал.
Вечером того же дня поездом из Ашхабада в Мерв прибыл помощник командующего фронтом Блажевич. Ему доложили о «ЧП» во 2-м Турк. стрелк. полку. Он приказал быстро закончить следствие.
Маруся, узнав о прибытии Блажевича, разыскала на железнодорожных путях его поезд и добилась пропуска в вагон его и свидании с ним. Она рассказала ему все и просила защиты. Блажевич уверил ее, что с Койранским ничего плохого не приключится.
Следствие было проведено быстро, в один день. Уже на второй день после ареста Койранского, в полдень, Койранский был освобожден.
По прибытии в полк он узнал, что Муравьев арестован и что Блажевич увез его в штаб фронта, в Ташкент.
Атмосфера в полку сразу переменилась. Все вздохнули свободно. Комиссаром полка стал Калинин, тоже из матросов, но человек умный и с хорошим характером.
На его долю выпало объяснять военнослужащим полка ошибочные взгляды Муравьева, несовместимые со званием комиссара и коммуниста.
Муравьев, как стало известно позже, был исключен из партии и уволен с военной службы.
Говорили, что видели его на станции Самарканд, где он «тащишкой», (носильщиком) зарабатывал себе на кокаин и вино.
27. Восстание Энвер-Паши
Не прошло и трех месяцев после описанных событий, как новая гроза собралась над Туркменией и над полком.
Всегда ранее спокойная граница с Афганистаном с некоторых пор ни с того, ни с сего стала чрезвычайно бурной. Каждую ночь вспыхивали пограничные стычки с подразделениями полка.
Афганцы подвели к крепости Кушка, а также к укрепленному району Серакс свои отмобилизованные дивизии, показывая этим намерание напасть на нашу территорию.
Поощряемый и вооружаемый Англией, Афганистан требовал передать крепость Кушку и долину Белуджистана.
В Кабуле наш посол Раскольников вел почти безнадежные переговоры с Афганским правительством, которое искало выхода из подневольного своего положения за счет Советской страны, так как английские колонизационные властиуверяли, что большевики не сильны и Афганистан сумеет компенсировать захваченную англичанами афганскую территорию.
Приказом штаба фронта полк был подвинут непосредственно к афганской границе, в крепости Кушка начались инженерные работы, расчищался обзор из крепости и горизонт обстрела.
И из Европы в Кушку были присланы воинские части, особенно артиллерийские.
Чтобы показать афганцам, каким мощным вооружением располагает наша Красная Армия, было решено провести в крепости Кушка и в ее окрестностях ночное учение, показав артиллерийский огонь огромной силы из большого числа орудий всех калибров.
Афганские власти были, конечно, предупреждены о предстоящем ночном учении.
Это ученье прошло на высоком уровне. Все части обороны действовали слаженно, но особенно хорошо работали артиллерийские части, в том числе артиллерийские военные училища, прибывшие из Актюбинска, Оренбурга и Ташкента.
Проведенное ученье наглядно показало Афганистану, его генеральному штабу, что мощь артиллерийского огня Красной Армии намного превышает мощь всей артиллерии афганской армии, которая, по вполне понятным причинам не могла достичь такой огневой мощи: Англия, вооружая ее, боялась, как бы ее оружие не было направлено против нее же.
С другой стороны, кушкинское ученье очень помогло дипломату Раскольникову в переговорах.
Не прошло и двух недель, как был, наконец, заключен афгано-советский договор «О мире, дружбе и взаимопомощи», афганские войска были отведены внутрь страны и их острие повернулось против англичан.
Колонизаторам пришлось туго. С помощью Советской России, снабжавшей армию Афганистана оружием, инструкторами и продовольствием, англичане были выбиты из Афганистана и навсегда потеряли эту колонию. Но еще до своего ухода с афганской территории англичане сделали еще одну попытку удержаться в Средней Азии.
По договору с Советской Россией правительство Афганистана лишило право убежища в горах обосновавшихся там бухарского эмира и байско-поповскую верхушку бухарской феодальной знати, питавших басмачество на Советской земле, боровшейся за возвращение в Бухару и за новое порабощение народа.
Бухарские и хивинские баи, обескураженные неудачей Джунаид-хана, вновь стали собирать банду и обратились за помощью к Англии.
И она охотно откликнулась: поставила свое оружие, дала своих офицеров, которые сформировали армию трех родов войск численностью до ста тысяч человек и нашла подходящего командующего этой армии, турецкого генерала Энвер-Пашу.
Он возглавлял контрреволюцию в Турции, потерпел там военное поражение и искал страну, где бы приложить свои военные «таланты», так как в Турции под ним уже разверзлась яма окончательного падения в неизвестность.
Предложение англичан возглавить бухарское восстание понравилось Энвер-Паше.
Он сумел по подложным дипломатическим документам вместе с небольшой группой приближенных через территорию Советской России приехать в Афганистан, прямо в резиденцию в горах Бухарского эмира.
В марте 1922 года контрреволюционная армия Энвер-Паши вторглась в Восточную Бухару, оттеснив малочисленные отряды советских пограничных войск.
Когда стала очевидной авантюра мятежа при помощи регулярной армии, заменившей шайки басмачей, для борьбы с ней была сформирована из частей Красной Армии, расквартированных в Туркмении и Узбекистане Бухарская группа войск.
В то же время из Европы был переброшен в Туркестан 13-й стрелковый корпус, высаживавшийся в Самарканде и около него, до Чарджуя.
Такими силами предполагалось сокрушить восстание конрреволюции.
13-й корпус стал сосредотачиваться к границам восточной Бухары, а полки Бухарской группы получили задание не допустить распространение армии Энвер-Паши в западную Бухару.
2-му Туркестанскому стрелковому полку надлежало прикрыть направление Новая Бухара – Чарджуй, а также афганскую границу со стороны Кушка – Серакс.
Эту операцию полк осуществлял без Койранского, получившего назначение офицером для связи между Бухарской группой и 13-м стрелковым корпусом.
В самом начале апреля Койранский в сопровождении ординарца выехал верхом в направлении Карши – Термез, в район предполагаемой встречи с 17 корпусом. По данным оперативной разведки этот район не был занят восставшими.
Койранский медленно ехал через кишлаки с их цветущими садами из фруктовых деревьев, мимо заполненных уже водой арыков, но в кишлаках встречал пустоту: одни собаки, которыми всегда были полны бухарские кишлаки, злобно лаяли на проезжавших, да кое-где небольшие бараньи стада подгонялись к кишлакам с постоянных пастбищ. Даже ребятишек, этих равгодушных ко всему, кроме своих игр, деревенских аборигенов, не было видно.
Все говорило, что население прячется, чтобы не оказаться в числе приверженцев «неверных».
Это был плохой признак. Он подсказывал Койранскому, что враг уже недалеко. Но Койранский продолжал свой путь, не обращая внимания на это. Однако, чувствуя в этом недружелюбие, он не рискнул останавливаться на ночлег у местного населения.
Отдых ночью и короткие привалы днем, чтобы напоить и накормить коней Койранский с ординарцем проводили вне населенных пунктов.
У них с собой были «чурек» (хлеб) и консервы, а также по две фляги кипяченной воды.
Четверо суток, около 200 верст, было проведено ими, когда неожиданно был встречен эскадрон войск ВЧК, из 105 сабель при трех пулеметах системы «Максим» и с двумя полными патронными двуколками.
Эскадрон, как оказалось, шел из района Термеза, преследуемый по пятам отрядом противника силою до 5000 сабель.
В этих условиях Койранский был вынужден присоединиться к эскадрону и вместе с ним идти назад.
В пути эскадрон охранялся боковыми и тыльным разъездами. От них получались непрервные донесения.
Тыльный разъезд доносил, что противник усиливает скорость движения, эскадрон же этого сделать не мог из-за усталости коней, которых уже сутки не кормили.
Стало ясно, что уйти от врага не удастся. Поэтому Койранский и командир эскадрон Гранильщиков решили организовать оборону в каком-либо кишлаке с подходящим дувалом (глинянный забор).
Такого кишлака по пути не встречали. По карте же нашли в стороне от дороги, примерно в 4–5 верстах, мельницу, которые на востоке обычно обносятся высокими дувалами. Осмотрели ее. Действительно, она обнесена очень высоким и прочным дувалом, за которым были сложены мешки с мукой. Здесь оказался и колодец.
Лучшего места для обороны не найти, тем более, что и времени до наступления темноты оставалось мало.
Эскадрон свернул с дороги и занял мельницу, которая на карте называлась «Гаман», чтобы быстро приспособить ее для обороны.
Койранский, как пехотный командир и к тому же старший по должности, принял командование обороной.
Мешков с мукой оказалось так много, что стены дувала были обложены ими сверху и представляли хорошую защиту. Пулеметы были расставлены с расчетом круговой обороны для простреливания по фронту и по флангам. При этом сохранилась возможность быстро перебрасывать их на запасные позиции.
Наличие же на мельнице муки позволяло жарить лепешки и кормить ими людей, так как другого продовольствия у эскадрона не было.
Кроме того, на мельнице было обнаружено большое количество сушеногоклевера, заплетенного в двухметровые плетенки, как это делается в этих краях для облегчения перевозки сена всадниками.
Людей на мельнице не оказалось. Она была покинута то ли раньше, то ли при появлении разъездов эскадрона. Но было очевидно, что мука и сено были заготовлены для вторгшейся бандитской армии.
К темноте все было готово. Оборона занята, назначен дежурный взвод, остальным было разрешено спать.
Противник не атаковал мельницу. Но его близкое присутствие было заметно по ржанию коней, на которое откликались кони эскадрона, по деревянному скрипу верблюдов и арб, а позднее послышалось пенье молитвы, намаз, а за ним грознцые крики: «Смерть гяурам, смерть!»
Каждый задавал себе вопрос: далеко ли враги?
Да, они были довольно далеко, не ближе, чем за полторы версты от мельницы.
Потом все смолкло, как будто бандиты ушли от мельницы. Ночь прошла спокойно.
Чуть начало рассветать, мятежники в конном строю решили разведать силу «гяуров» и попытаться с налета ворваться в импровизированную крепость. Отряд в 150–200 сабель с криками «Алла…Алла!» выскочил из темноты, еще окончательно не рассеявшейся.
Встреченный пулеметным и ружейным огнем враг повернул обратно оставив лежать в виду крепости не менее трех десятков коней, как плату за легкомысленную разведку.
Затем все затихло. Когда совсем рассвело, в бинокль хорошо просматривался неприятель, расположившийся лагерем с кибитками, на расстоянии 1–1.5 версты. Лагерь окружал мельницу кольцом.
Утром опять послышались звуки намаза, потом поплыл густой запах жаренного мяса и жира.
Около 12 часов защитники крепости вдруг заметили большой массы сгрудившихся верблюдов и кибиток. Они сначала вроде топтались на месте, а потом довольно быстро задвигались к мельнице.
Этот верблюжий марш происходил по всему кольцу обороны.
Крепость молчала, наблюдая и ожидая, что будет дальше. Но все люди были у дувала.
Меньше чем в полуверсте от мельницы верблюды неожиданно расступились, образовав широкие пролеты, и из них вынеслись сотни всадников с обнаженными саблями, а за первым рядом – вторая шеренга, на ходу открывая ружейный огонь по дувалу.
И начался круговой бой. Много коней полегло, не доскакав до дувала, многие мятежников получило заслуженные пули от кинжального пулеметного огня, но мятежникам удалось во многих местах добраться до стен мельницы, десятки вскочили с коней на дувал. На стенах разгорелась рукопашная схватка.
Под пулеметным огнем мятежники то отхлынивали от стен, то, собираясь в других местах, вновь лезли на стены. Здесь работали сабли, штыки и приклады русских винтовок.
Стало темнеть и бандиты прекратили свои яростные атаки. Им не удалось за весь день боя проникнуть внутрь крепости буквально ни в одном месте.
Первый день боя дорого обошелся врагу, но потери его выяснились лишь на другой день, свет которого открыл до 400 павших вокруг крепости коней и не менее 250 конников.
У защитников мельницы было убитых 2 человека, раненых 18 и пропавших без вести, вероятно, пленными 3 человека.
Оборонявшийся эскадрон пленных не брал.
Ночью работал, при свете луны и электрических фонариков, эскадронный фельдшер, накладывавший повязки на раны от ударов сабель.
На другое утро после намаза и приятных запахов жареного, снова начались атаки противника в конном строю. Он применил новую тактику: атака шла повсюду одновременно по всему кольцу дувала, не скапливаясь кучами в одном месте, как было накануне. Поэтому пулеметы пришлось перебрасывать с одной позиции на другую по несколько раз. Противник старался разрушать пулями стены, стреляя в одно место из нескольких десятков ружей. В некоторых местах им удалось продырявить дувал, в десятках мест стены здорово осыпались.
Опять развернулся яростный рукопашный бой, не прекращавшийся с 8 до 14 часов. Стоны людей, лязг сабель о сабли, удары штыков, вышибавших сабли и ружья из рук мятежников, захлебыванье пулеметов не умолкали шесть часов.
Неожиданно враг побежал от стен, преследуемый ружейными залпами и пулеметами. Это отступление среди бела дня стоило ему дороже, чем бой в течение всего дня.
В этот день атак противника больше не было. Лишь перед вечером в виду стен мельницы появился небольшой отряд с белым флагом, прикрывавшим задуманное коварство.
Збрызнутые из пулемета «парламентеры» растаяли.
У эскадрона еще двое убитых и шестеро ранено, один из них тяжело. В этот день легко ранен сабельным ударом в левую руку чуть повыше локтя командир эскадрона Гранильщиков. Он остался в строю, помогая Койранскому распоряжаться во время боя.
На третий день враг также ожесточенно лез на приступ крепости, но защитники уже научились расправляться с нападающими, изучили их повадки. И потерь в этот день не было.
Но было другое: приступ малярии набросился на стойких бойцов, из которых строй покинули только двое, остальные во время атак врага сражались также доблестно, как и здоровые.
И было еще одно зло: днем солнце жарило немилосердно, а кругом у стен – трупы убитых коней вперемежку с убитыми бандитами. Трупы коней раздулись и отчаянная вонь – трупный запах – лезла в горло, вызывая тошноту, а минутами у некоторых и рвоту.
Питались исключительно пресными лепешками, без соли, – это вся пища и к ней горячий напиток, поддерживавший силы сражавшихся бойцов и особенно маляриков, которым во время приступов ничего, кроме воды, не шло в горло.
Койранский также переносил на ногах злые приступы малярии, но к вечеру, обессиленный, ложился на землю, весь мокрый от назойливого пота, знаменовавшего окончание приступа.
Обычно, приступ прекращался на несколько часов и к полудню следующего дня вновь начинался, еще более свирепый, чем накануне.
Ночь и четвертый день, за исключением двух часов дальней перестрелки, были использованы для уборки трупов. Ночью начали уборку бандиты, пользуясь впервые выползшей луной.
Это были предпасхальные ночи, как известно, всегда очень темные. По приказанию Койранского стрельбы не открывали, давая мятежникам убирать трупы.
Но, оказалось, противник собрал и унес только трупы людей. Трупы же павших лошадей он, вероятно, нарочно оставил у дувала, с целью отравлять атмосферу на мельнице.
К утру мятежники закончили свою работу и тогда вышли за дувал кавалеристы красной конницы.
Трупы лошадей не оттаскивались от стен: это было невозможно в виду врага, а зарывалсиь очень неглубоко в песок на месте. Таким образом был насыпан вал вокруг крепости, что должно было затруднить мятежникам приближение к дувалу.
Действительно, в последующие дни мятежники несли больше потерь и достигали дувала уже не в конном строю, а ползком, и не такими силами как раньше.
Пятый, шестой и седьмой дни уже не отличались былой яростью мятежников.
Было заметно, что нападавшие уже устали и действуют только под нажимом своих начальников.
В людях эскадрона тоже замечалась усталость: людей измотали малярия и недоеданье. Но, зная жестокость врага, красноармейцы бодро отбивали его попытки проникнуть на мельницу и расправиться с ее защитниками, подавив их своей многочисленностью.
Ночь с седьмого дня на восьмой отличалась какой-то неспокойностью в стане бандитов.
Койранский и Гранильщиков, забравшись на верх дувала, прислушивались к скрипу арб, ржанью коней и к редким непонятным отрывочным крикам. По тому, что они слышали, они не могли догадаться, что происходит у врагов. То им казалось, что лагерь врага свертывается и уходит, то, считая это наиболее вероятным, преполагали, что там происходит перегруппировка для новой свирепой атаки утром.
Вызвались два охотника спуститься со стен и разведать, что происходит в лагере врагов. Но они были замечены патрулями мятежников и обстрелены ими и были вынуждены вернуться ни с чем.
Но было ясно, что охранение, оставленное на ночь, никак не могло свидетельствовать об уходе противника.
Стали дожидаться утра. Никто на мельнице не спал. Рассветало. Со стороны вражеского лагеря ни одного звука.
Странность этой тишины поражала: ничего похожего не было в предшествующие дни.
Выбрали нескольких здоровых вполне красноармейцев и послали в разведку во всех направлениях к лагерю.
Через час вернулись все и единогласно уверяли, что противник ушел; в том месте, где, заметно, был лагерь, его нет, лишь несколько пустых войлочных палаток почему-то брошено в разных местах бывшего лагеря. Сразу вспомнилась троянская история, когда греки удалились от осажденной Трои, чтобы проникнуть за ее стены, воспользовавшись беспечностью троянцев. Решили не поддаваться на возможную провокацию и ожидать, ведя беспрерывную конную разведку.
Это был третий день пасхи: красноармейцы, отдыхая, вспоминали пасхальные праздники дома и кое-где негромко пели.
Около 15 часов прибыл восточный разъезд, сообщивший, что с востока слышен топот коней, еще далекий, но неторопливо приближающийся.
Решили: враг возвращается, и сигналами трубы отозвали все разъезды к мельнице.
Через час-полтора послышались звуки залихватской кавалерийской песни и шум от поступи многочисленной конницы.
Сомнения исчезли: к мельнице шли свои, красная конница, явственно раздавались слова известной всем песни: «Мы конница Буденного…»
Навстречу высыпали за дувал все: и здоровые, и больные. Даже раненные, которые, казалось, не могли двигаться, выползли к проходу, быстро проделанному в дувале.
Описать радость освобожденных трудно: люди плакали, обнимали друг друга, признавались, что считали себя обреченными.
Когда подошла кавалерийская бригада 13-го корпуса, мгновенно спешившаяся и окружившая мельницу и ее защитников, Койранский сделал обстоятельный доклад командиру бригады о прошедшей «гаманской» неделе, о подвигах людей, о героизме всех без исключения, а также о малярии, о недоедании, о прочих нуждах эскадрона.
Комиссар бригады рассказал бойцам эскадрона, что наступление 13-го корпуса развернулось уже по всей территории Бухары, что в бою у города Керки главные силы Энвер-Паши разбиты на голову и сам он не то убит, не то застрелился.
Подошедшие полковые кухни накормили изголодавшихся «гаманцев», часть которых, в том числе и Койранский, попали в походный лазарет бригады, кто из-за ранения, кто из-за малярии, а кто из-за того и другого.
Вследствии жарких дней, бригада ночью снялась с привала и двинулась по заданному маршруту, а утром, выполняя приказ командования корпуса, развернулась в направлении Карши-Термез, рассчитывая во взаимодействии с другими частями корпуса зажать в клещах оставшихся, еще не рассеивавшихся мятежников, в том числе и отряд, осаждавший мельницу «Гаман».
Остатки эскадрона, забрав линейку с больными и ранеными, медленно двинулась к Новой Бухаре и Чарджую.
Койранский, отдохнув ночь в лазарете, пересел на коня и вместе с эскадроном, но уже не как командир его, а как попутчик, прошел путь до Новой Бухары.

