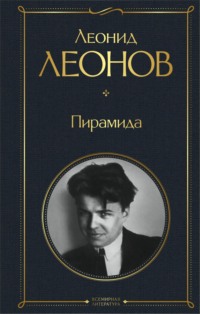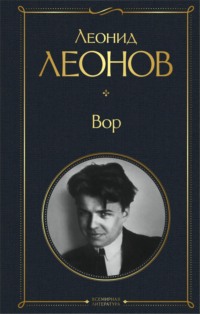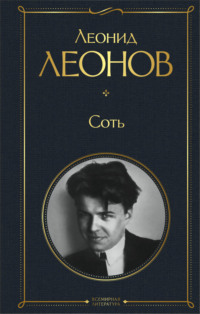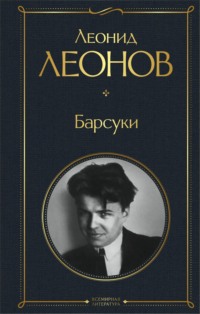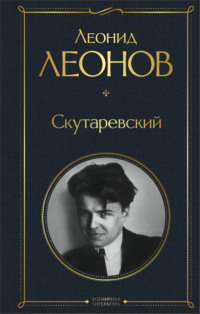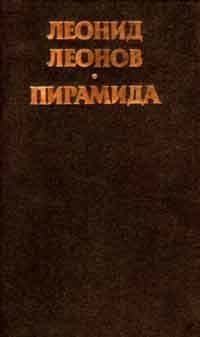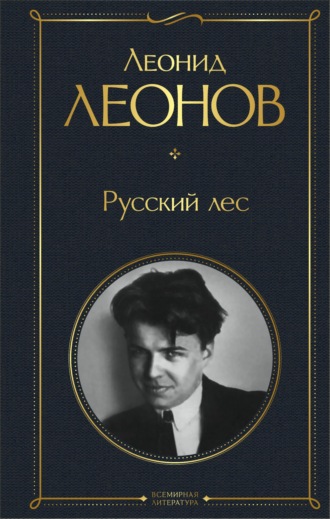
Полная версия
Русский лес
– Значит, вы думаете, война еще долго протянется? – вздохнула Поля.
– Во всяком случае, у нас с вами будет достаточно времени для многих таких, э… невольных бесед. – В этом месте он пристально поглядел на Наталью Сергеевну, с безучастным видом наклонившуюся в их сторону, и уже не для Поли прибавил как бы с оттенком зависти, что у юных все впереди, так что еще успеют побывать в блистающих предгорьях Коммунизма. Ему оставалось закрепить состоявшееся знакомство: – Кстати, я не расслышал, как ваша фамилия?
– Зовите меня просто Полей… – и доверчиво подняла глаза. – А вас?
Таким образом и он был поставлен в приятную необходимость назвать себя. Его звали Александр Яковлевич, фамилия его была Грацианский. Следовало считать особой удачей, что судьба без промедления свела Полю с крупнейшим знатоком леса, главным судьей ее отца, способным пролить свет на историю сомнительной вихровской известности…
К счастью, что-то отвлекло в сторону внимание Грацианского, и Поля имела время оправиться от молниеносного потрясения.
2
В ближайший вечер она в подробностях рассмотрела своего нового знакомца с пледом на коленях. Как и в прошлый раз, он сидел в профиль к ней, но в этом заключалось и некоторое преимущество: не мешали очки, не заслоняла книжка, служившая ему как бы ширмой от посторонних наблюдателей. У него было продолговатое, аскетической худобы, овеянное непримиримым величием и не без оттенка надменной гордости, лицо с матовым цветом кожи и с небрежной, чуть сединою тронутой бородкой; как бы ветерком вдохновенья вздыбленные волосы его были умеренно длинны, и слегка мерцающие тени лежали во впадинах под высоким лбом. Все это придавало ему образцово-показательную внешность стойкого борца за нечто в высшей степени благородное, что, в свою очередь, вызывало самые глубокие к нему симпатии. И при одних поворотах он напоминал некоего православного миссионера с Курильских островов, запомнившегося Поле по картинке из Нивы, а при других – даже пророка древности, приговоренного к мученическому костру… если бы не странное, к прискорбию, устройство глаз у Александра Яковлевича Грацианского. Время от времени там, в глубине, под бесстрастно опущенными веками начиналась быстрая, на тик похожая беготня зрачков, мало подходящая для проповедника не только слова божия, но и менее возвышенных истин. Какое-то неотвязное воспоминание преследовало этого человека, так что каждую четверть часа требовалось ему удостовериться в отсутствии поводов для беспокойства. Наверно, река жизни основательно потрепала его на порогах, прежде чем вынесла в устье заслуженного общественного признания, и Поля, приученная уважать поколения отцов, правильно восприняла указанные странности как след какого-то потрясенья, испытанного в годы революционного подполья.
Через минуту такое толкованье показалось ей книжным, проще было искать объяснение в самой обстановке той ночи. Полю тоже давили и эта насыщенная бедствием тишина, и виноватое сознание своего дезертирского сидения в подвале, в то время как другие стоят на крыше или во весь рост идут в атаку – Родион в том числе! – и, наконец, вся эта содрогающаяся, восьмиэтажная толща камня, в особенности напоминавшая о своем весе именно здесь, в низком сводчатом подземелье. Детям свойственно понимать поведение старших в пределах своего собственного опыта.
Вдруг Поля почувствовала, что Грацианский боковым зрением заметил ее напряженное внимание; он еще держал томик перед собой, но глядел поверх страницы.
– Довольно легкомысленно приходить сюда в легкой блузке. Дом новый, штукатурка еще не просохла, – сказал он, освобождаясь от очков. – Хотите мой плед?
– Ничего, я крепкая… с ребятами в глухую осень реку наперегонки переплывала!
– Похвально… как раз безумства юности служат нам порой тренировкой для героических свершений в зрелом возрасте, – и вдруг с неожиданной в его годы резвостью повернулся к Поле лицом: – Ну, признавайтесь теперь, откуда вы знаете меня?
Ей удалось схитрить; она ненавидела ложь, но теперь пустилась бы и не на такое, лишь бы выпытать правду об отце.
– О, я читала ваши сочинения об этом… как его? ну, об ученом, который собирается запереть на замок от народа русский лес.
То была подлинная цитата из его собственной статьи, только там гораздо злее намекалось на еще существующих, якобы весьма живучих старушек, которые с семнадцатого года хранят в сундучках манную крупку и сахарок на предмет некоторых чрезвычайных и, надо надеяться, не продолжительных политических событий, после чего все должно воротиться в колею, так сказать, нормальной жизни.
– О, вы имеете в виду мою старинную полемику с Вихровым… – польщенно улыбнулся он. – Каким же образом вам попались на глаза эти мои… торопливые рукоделья?
Она правдиво рассказала, что познакомилась с ними у матери, в лесничестве, где, по многолетней традиции, выписываются все специальные издания.
– Библиотечка там маленькая, все до корки перечитала. Но вот уж сколько живу на свете, а и в голову не приходило никогда, что в такой тишайшей области, как лес, могут твориться такие громкие происшествия.
– Простите… это в каком лесничестве… живет ваша мать? – в упор и быстро спросил он.
Встречная предосторожность заставила Полю назвать соседнее, – по ту сторону реки Горянки:
– Сватковское, на Енге… Глушь и тоска ужасная!
– Напротив, отличные места. В годы молодости я бывал в ваших краях, только в лесничестве Пашутинском… как раз в гостях у этого самого Вихрова, – с приятностью вспомнил Грацианский, взглянув куда-то наискось и поверх Поли. – И, скажите, какую же оценку получили мои сочинения в вашей милой, пытливой головке?
– Я бы так определила, что это… очень сильные статьи. Только одного не могла понять: откуда ж и у нас берутся такие люди, да еще в наше время, когда весь народ безраздельно отдает себя созидательному труду, – прочла она словно из газетной передовой. – Едят советский хлеб, а сами…
Грацианский крайне сочувственно принял ее безыскусственную вспышку.
– Видите ли, светлая девочка, мы живем в чудесную эпоху сдвигов и преобразований, когда классовая борьба принимает порой самые причудливые формы, э… пока не выливается наконец в открытую схватку двух сторон. Нельзя забывать, что, лишенные прямой возможности наносить ущерб, к тому же и бессмысленный при нашем гигантском творческом напоре, враги пускаются порой на ювелирные хитрости, среди которых не последнее место занимают так называемые невинные заблуждения, обычно выдаваемые за оттенки научной мысли. И у этого Вихрова поразительная склонность к так называемому самостоятельному мышлению. А чем крупней размах народной деятельности, тем чреватей начальное отклонение в идеях даже на полградуса… не правда ли, мой друг?
Последняя надежда на оправдание отца рушилась от этого приговора, высказанного с печалью запоздалого сожаления, и Поля напрасно цеплялась за что придется при падении.
– Вы полагаете… – кусая губы, начала Поля, но дыхание оборвалось у ней, и заговорила снова, и так повторялось до трех раз. – Вы полагаете, что Вихров сеет свои вредные идейки… не совсем спроста?
Только полгода спустя, при сопоставлении некоторых обстоятельств, вспомнилось ей, что в этом месте Наталья Сергеевна приоткрыла глаза, пристально взглянула на Грацианского и снова предалась своей дремоте.
– Я понял, на что вы намекаете, но нет… не допускаю, – с неуверенно-кислым видом протянул Полин собеседник. – Сопротивление людей этого класса давно сломлено… я бы сказал, оно погребено в бетоне социалистической стройки. Конечно, в плохих романах еще попадаются загадочные фигуры с потайными фонарями, хранящие в зубной пломбе похищенную схему городской канализации, без чего в наше время трудно бывает провернуть громоздкий и дидактический сюжет, но… судя по критическим обзорам, это и в литературе становится запрещенным приемом. Кроме того, лес не является оборонным объектом, туда ходят даже без пропуска!.. Нет, тут действуют другие, ржавые пружинки отжившего общества… скажем, застарелая обида бездарности, уязвленное самолюбие неудачника, а иногда и поганая надежонка заработать налево полтинник, недополученный от советской власти… – Он выдержал краткую и естественную паузу гражданского негодования. – Конечно, Вихров – иное дело, я даже не могу отказать ему в известном даровании, к несчастью, мы всегда пренебрегаем тонким психологическим анализом в наших слишком обобщенных суждениях!.. Оттого-то и неизвестно в конце концов, когда и где, при самой стерильной анкете, тот или иной подобного рода деятель хлебнул глоток мертвой воды, который всю жизнь потом рвет ему внутренности. Признаться, мне еще не приходил в голову ваш вариант, но… нет, не допускаю! – еще категоричней повторил он, машинально захлопнув книжку, куда по рассеянности заглянула было Поля. – У Вихрова его научные выверты – скорей проявление болезни, чем сознательно направленной воли.
Он произнес это с такой искренностью, что Поля устыдилась своей недавней неприязни к собеседнику, даже прямой вражды, порожденной, кстати, обостренным и зачастую безошибочным чутьем юности.
– Как вы хорошо говорите, продолжайте! – умоляющим шепотом попросила она.
– Я знаю Вихрова со студенческих лет, – продолжал Грацианский, увлекаясь воспоминанием, – и в моих глазах это всегда был совсем не плохой товарищ, несколько одержимый, возможно даже зараженный манией преследования… я бы сказал, лесного преследования, но безусловно честный человек. И вовсе не потому я беру его под защиту, что когда-то мы совместно хлебали фасольную похлебку в одной нищей кухмистерской на Караванной и подвергались гонениям от царского режима! Больше того, я уважал бы его за настойчивость, с какой он стремился протащить свои теорийки в народнохозяйственную практику, если бы, э… они не противоречили кое-каким интересам социалистического прогресса. Именно теорийки! Взгляните на карту сибирских лесов, и вы поймете, что при любых годовых нормах рубки никакая опасность истощения не грозит этому буквально неисчерпаемому зеленому океану.
Поля просительно коснулась его рукава:
– Скажите… а вы не пытались убедить его… не с помощью брани, нет, а с глазу на глаз, как друг, как большой человек? Может быть, вам удалось бы повернуть его на наши рельсы, если, конечно, этот Вихров стоит усилий такого человека, как вы!
Грацианский с безнадежным видом качнул головой.
– У него первоклассные знания и все еще ясный ум, а… лишь в молодом возрасте случаются такие озаренья. Вспомните, сколько лет было Савлу на пути в Дамаск или Белинскому, отрекающемуся от гегельянского примиренчества… но кто, кто поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея? И все же я отвергаю ваши законные подозрения в злом умысле, хотя временами и сам склонен предположить нечто близкое к этому… но совсем другое. Видите ли, девочка моя, люди в нужде всегда особо чувствительны и памятливы на проявленную к ним ласку.
– Это какую же ласку? – тихонько спросила Поля.
– Всякую, – значительно обронил Грацианский. – В биографии Вихрова имеются кое-какие моменты, заслуживающие внимания… не следователя, нет, но именно социального психолога. – И с той же неприятной для Поли туманностью во взоре намекнул, что не сомневается в необходимости такой должности в завтрашнем обществе – для исследования различных обстоятельств, неуловимых сводками государственной статистики, «если, конечно, целью последней является не только подтверждение кабинетных истин, а и открытие новых, обогащающих человеческое знание».
И оттого, что длительное сидение в бомбоубежище располагает к особой, хоть и временной, близости, Грацианский деликатно приоткрыл Поле чужую тайну. Так, со смешанным чувством боли и отвращения она узнала от собеседника, что все три года их совместного пребывания в Лесном институте Вихров получал, «как бы это поточнее назвать… нет, не стипендию, но регулярное ежемесячное пособие в двадцать пять целковых от неизвестного частного лица». Сопроводительные почтовые уведомления бывали подписаны явно вымышленной фамилией, и вряд ли в ту пору крайнего обнищания рабочего класса мог под ней скрываться, скажем, токарь Путиловского завода, этакий заочный любитель и покровитель лесов. Переводами этими Вихров пользовался вплоть до своего ареста, но есть основания полагать, что и по возвращении из двухлетней административной высылки помощь эта продолжалась до самой дипломной работы, к слову, защищенной им по первому разряду. К чести Вихрова, он всегда делился этими случайными деньгами с беднейшими из приятелей, а впоследствии значительную часть суммы отсылал их общему другу, Валерию Крайнову, отбывавшему срок своей ссылки где то за Енисеем. Таким образом, получения этих денег Вихров не скрывал, однако на расспросы товарищей отзывался незнанием.
– Словом, пройдя тяжелую школу жизни, лично я в филантропическое бескорыстие как-то не слишком верю, – заключил Грацианский, – и, надо думать, вихровский благодетель, несомненно – дальнего прицела человек, рассчитывал на его позднейшую признательность, э… в будущем!
Возникало естественное недоумение, как Вихров мог принимать деньги столь загадочного происхождения, но, по мнению Грацианского, от голодного, оборванного человека и нельзя было требовать особой щепетильности, тем более что получение их не сопровождалось никакими встречными обязательствами: «В пустыне некогда разбираться, чью и какую воду пьешь, если она способна утолять жажду».
– Понимаю… вот он, глоток мертвой воды! – с похолодевшим сердцем повторила Поля. – Скажите, а что представлял собою этот ваш… Крайнов?
– О, это был исключительный товарищ, наш общий друг, тоже студент… только старшего курса, уже в те годы перешедший на положение профессионального революционера. Все трое… Чередилов, Вихров и я, мы многим обязаны ему в отношении тогдашнего политического образования. Собственно, он-то меня и в революцию втянул… – И тут выяснилось, между прочим, что это был тот самый известный Крайнов, сряду два десятка лет проведший на посту советского дипломата, что, в свою очередь, указывало на незаурядность его ума, такта и партийной репутации.
– Но ведь, принимая помощь от товарища, Крайнов не мог не знать имущественного состояния Вихрова… – выбредая на свет из потемок, сообразила Поля. – Значит, он знал, что это чистые деньги, если не отказывался от них!
Грацианский одобрительно усмехнулся.
– Вы могли бы с успехом работать в уголовном розыске, – похвалил он Полину проницательность. – Все это так, если бы сюда не примешивалась одна… нет, не отягчающая, но, нельзя не согласиться, несколько темная подробность. Помнится, на прощальной пирушке по окончании института завязался разговор о некоторых непонятных явлениях из области этой самой социальной психологии… и Вихров сам, без принуждения, рассказал про двадцать пять рублей, выданные ему в пьяном виде одним крупным лесопромышленником, гремевшим тогда на всю Россию. Нет, в том-то и дело, что пьян был именно купец, а не Вихров, хотя лично я предпочел бы обратное. А возникшие при этом отношения могли продолжаться и дальше, не правда ли?.. Надо сказать, дело шло к рассвету, все мы были крепко на взводе, да еще этот оглушительный Чередилов, Большая Кострома по прозванию, на гитаре бренчал… так что я и не уловил в чаду, в каком именно качестве Вихров попал на оргию петербургского миллионера, а главное, зачем было Вихрову выбалтывать такого рода секретцы.
– И вы тоже в тот раз… на взводе были? – впервые таким стеклянным, хрупким голоском вставила Поля.
Оказалось, алкогольные излишества с юности были запрещены Грацианскому по шаткости здоровья, в доказательство чего он и привел самую болезнь, из названия которой, прозвучавшего красиво и загадочно, можно было заключить, что она дается лишь избранным за чрезмерное напряжение интеллектуальных сил. Поле очень хотелось сказать, что вот-де как хорошо тем, кто мало пьет, а все сидит себе в сторонке да на ус наматывает… и она непременно высказала бы это, если бы в ту же минуту не произошли два, один за другим, где-то поблизости оглушительных разрыва. Свет замигал, дрогнули стены, заплакали проснувшиеся дети. Наталья Сергеевна метнулась к выходу: бомбы упали в Благовещенском тупичке, и кому-то могла понадобиться ее медицинская помощь… В тот вечер из-за раздумий о своем отце Поля почти не заметила бомбежки и теперь на примере Грацианского сама могла наблюдать, как выглядит человек, полуразбитый параличом страха.
Больше разговор не возобновлялся, а вскоре затем по радио был объявлен отбой воздушной тревоги.
3
Шатаясь, Поля поднялась на свой этаж; всегда после бомбоубежища ноги становились ватные, и почему-то ныла спина. Впервые к возвращению Вари с крыши не оказалось горячего чая на столе. Свою подружку Варя застала у раскрытой балконной двери; в потемках приникнув виском к косяку, Поля глядела на силуэтные нагромождения затемненного города. Она не отозвалась на Варин оклик, и не сразу удалось отвлечь ее от манящей отвесной глубины. Спустив синюю бумажную шторку, они сели за стол; Полина кружка стыла нетронутая. На все вопросы Поля отвечала невпопад или – такой заискивающей, неискусно подделанной улыбкой, что и ничем не возмутимую Варю охватило предчувствие беды.
– Ты заболела?
– Нет-нет, ничего… спасибо.
– Но… что именно случилось?
Поля сидела, как оглохшая, – безучастная, и немая. Тогда, насильно напоив малиной, Варя уложила ее в постель и так же молча гладила ее холодные ладони.
– Лучше не трогай меня, не поганься, – отстранилась Поля, до горла натянула одеяло, вытянула вдоль тела спрятанные руки. – Нельзя!
– Но почему?
– На мне лежит страшная тайна.
Варя сделала добросовестную попытку удержаться от смеха.
– О, это звучит серьезно! Хорошо еще, что я знаю все твои секреты. Кайся, окаянная: ты съела пирожное от меня украдкой… так?
И опять дрожавшая в ознобе Поля не посмела поднять на нее глаза.
– Ты не прогонишь меня? – Она тотчас поправилась, чтоб не обидеть Варю. – И вообще, как ты думаешь… все они меня не прогонят?
– Кто тебя погонит, откуда?
– Ну, вообще… из народа моего, из страны.
– Мне не нравятся твои мысли, Поля. Как можно допустить, что кто-то лишит родины молодую советскую девушку… – Вдруг она истолковала Полин вопрос в свете своих неотвязных тревог. – Или ты думаешь, что мы будем разбиты? Да ты отдаешь себе отчет, чем мы сильны и сколько нас… сколько у нас этого, главного, чем побеждают, и сколько мы можем еще произвести, если потребуется? Ты пойми, пришлось бы каждого убить в отдельности, чтоб истребить в нас накопленное за эти годы. И народ никому тебя не отдаст: ты как зернышко у него в ладони. Ну, ложись и спи!
Только эти последние слова и достигли Полиного сознания. Она приподнялась и, точно прорвалось, лихорадочно заторопилась, куда-то мимо глядя красными, набухшими глазами.
– Но что бы ни случилось дальше, ты меня не бойся, Варя, не бойся… я не кину на тебя тень, не подведу. Позволь, что же еще я хотела тебе сказать? Вот ниточку потеряла… – Она пошарила глазами вокруг себя. – Да, вспомнила… не бойся: я тогда заранее уйду, сама, найду себе место… и даже маме не пожалуюсь. Я уверена, она тоже ни в чем, ни капельки не виновата. Впрочем, нет, я все вру, Варенька… я никуда отсюда не уйду… потому что я заслужу прощение всей жизнью моей! – и по лицу ее покатились обильные облегчительные слезы. – Знаешь, я буду делать самое трудное… уж когда все откажутся, а я пойду и сделаю. Я за нас обоих отработаю… как ты думаешь, хватит у меня сил на двоих, а?
Она отца своего имела в виду. Варя не поняла, нахмурилась:
– Это истерика, перестань, не люблю. Говори начистоту… что-нибудь с Родионом? – Затем последовали сухие, отрывистые приказанья: – Перестань же, я сказала! Ты получила письмо оттуда, с фронта, я видала давеча на столе. Немедленно дай сюда…
Воспаленное состояние Поли, а главное, ее сбивчивая, двусмысленная речь – все подсказывало самые худшие догадки, много страшнее, чем даже Родионов плен или его смертельное ранение.
– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, протянула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.
Впоследствии Варя очень стыдилась своих начальных предположений, но… редкие транзитные эшелоны не задерживаются в Москве, а вокзалы находились поблизости, а Родиону был известен Полин адрес. Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок… тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну: Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки.
Варя сразу наткнулась на главное место.
«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал все это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. – Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем еще оправился: хуже любой контузии моя болезнь. Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. Сожги это письмо, тебе одной на всем свете могу я рассказать про это. – Варя перевернула страничку. – Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила при отступлении. Я шел последним в роте… а может, и во всей армии последним. Нам на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребенок, видимо на школьной скамье приученная любить Красную Армию… Конечно, она не очень разбиралась в стратегической обстановке. Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. У нее были такие пытливые, вопросительные глаза: на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть… но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус… матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не трус. Зажмурился, а принял его, у ней, покидаемой на милость врага… С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моем, словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если случится. Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как она происходит, всухую, купель-то зрелости! – Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить…»
– Да, он очень вырос, твой Родион, ты права… – складывая письмо, взволнованно сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок.
И опять на дальнейший поток вопросов Поля отрицательно, с закушенными губами трясла головой. Тогда Варя накрепко заперла балконную дверь, так как холодало к рассвету, и всю остальную ночь не сомкнула глаз, по шорохам следя за всяким Полиным движением. Утро не принесло ясности. Двукратная Варина попытка расспросить Наталью Сергеевну, что именно произошло в бомбоубежище, не удалась; оба раза Варе показалось, что дама треф избегает ее. Среди дня Поля пропала, и бросившаяся на поиски Варя нашла ее лишь к вечеру во дворе соседнего домовладения; та копала землю на постройке чужого укрытия. Никто не звал ее туда, а просто она увидела людей за работой и сама взялась за попавшуюся на глаза лопату.
– Вот… иду мимо, заглянула, увидела знакомое платье. А ты чего тут, поразмяться вышла? – искусно, без тени тревоги спросила Варя. – Ты уже пообедала?
– Я из вчерашнего поела… скучно стало сидеть одной, – тоже незначащим тоном отвечала Поля. – Я скоро приду, ты ступай.
Она вернулась в сумерках, когда стало накрапывать, с опущенными глазами, почерневшая, точно подгоревшая изнутри. За чаем читали вслух сводку Информбюро, и Варя, как всегда, разделяла паузами боевые эпизоды, чтобы яснее представить, как это выглядело наяву. Не были в сводке упомянуты ни населенные пункты, ни другие ориентиры приближающейся войны; о недосказанном следовало догадываться по тому, как при чтении сжималось сердце… Поля сидела с видом не очень желанной гостьи и, время от времени удостоверясь в чем-то, зажатом у ней в кулаке под столом, снова обращала рассеянный взгляд к проему балконной двери. Оттого ли, что вследствие затемнения все отвлекающее было удалено из поля зрения, орнаментальные подробности зданий и вечерние огни, казалось – там умещался гораздо больший кусок московской панорамы, чем обычно, и глаз легко схватывал архитектурное единство столицы. Было в ее ночном профиле что-то от громадного, на развороте, боевого корабля, покидающего гавань для долгого и грозного плавания; впечатление усиливали блески мокрой палубы на площадях и стальные конструкции новостроек.