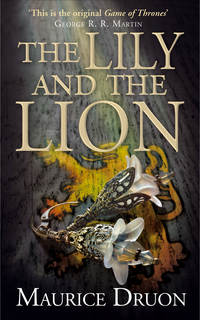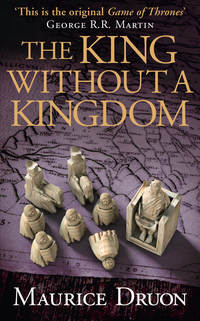Полная версия
Узница Шато-Гайара
Графа д’Эвре терзали обычные мысли. «Двадцать девять лет назад, – думал он, – мы, три брата, стояли вот так же у могилы нашего отца на этих же плитах… кажется, было это совсем недавно, а вот теперь настал черед Филиппа. Вся жизнь успела пройти».
Он перевел взгляд на соседнюю гробницу, где покоился вечным сном Филипп III. «Отец, – истово шептал Людовик д’Эвре, – примите в царствии том брата моего Филиппа, ибо был он достойным преемником вашим».
Сбоку от алтаря находилась могила Людовика Святого, а за ней виднелись каменные изображения великих предков. По другую сторону нефа лежало свободное еще пространство, нетронутые еще плиты, которые в один прекрасный день раскроются, дабы принять вот этого юношу, вступавшего на отцовский престол, а потом вслед за ним поглотят одно царствование за другим. «Здесь хватит места еще на многие века», – думал Людовик д’Эвре.
Брат его, Валуа, скрестив на груди руки и высоко вскинув подбородок, обводил ястребиным взглядом ряды присутствующих, следя, чтобы церемония развертывалась как положено.
– Король умер! Да здравствует король!
Еще пять раз раздавался под сводами базилики этот крик, по мере того как мимо могилы проходили сановники королевского двора… Со стуком упал на гроб Филиппа последний, пятый жезл, и воцарилась тишина.
В эту минуту Людовика X охватил приступ жестокого кашля, который он, как ни силился, не мог сдержать. Кровь прилила к бледным щекам, все тело Людовика била дрожь, и казалось, душа его отлетит прямо в отцовскую могилу.
Присутствующие переглядывались, митра клонилась к митре, венец к венцу – среди высокородных гостей прошел шепот тревоги и жалости. Каждого смущала мысль: «А вдруг и этот умрет через две-три недели, что тогда будет?..»
Среди пэров по праву занимала свое место грозная графиня Маго Артуа с побагровевшим от холода лицом; то и дело она беспокойно оглядывалась на своего племянника, гиганта Робера, стараясь угадать, почему это накануне он явился в собор Парижской Богоматери посреди заупокойной мессы небритый и забрызганный до пояса грязью. Где он был, что делал? Там, где появлялся Робер, тут же начинались интриги. Благоволение, которым внезапно стал пользоваться Робер после кончины Филиппа Красивого, не предвещало графине ничего доброго. И она невольно подумала, что, если нового короля, проводившего в последний путь своего отца, прохватит злой ветер, это будет ей только на руку.
Окруженный легистами Совета мессир Ангерран де Мариньи, коадъютор покойного государя и главный правитель французского королевства, стоял облаченный в траурное одеяние, носить которое имели право лишь особы царствующего дома. Время от времени он обменивался многозначительным взглядом со своим младшим братом Жаном де Мариньи, архиепископом Санским, который накануне служил заупокойную мессу в соборе Парижской Богоматери и сейчас в золотой митре на голове и с посохом в руке величественно стоял в кругу высшего духовенства Парижа.
Два простых нормандских горожанина, еще двадцать лет назад называвшиеся просто Ле Портье, сделали поистине головокружительную карьеру, причем старший повсюду тянул за собой младшего; теперь братья Мариньи, как звали их по велению покойного государя, поделили между собой всю власть: старший сосредоточил в своих руках власть гражданскую, а младший олицетворял власть церковную. Это они, соединив свои усилия, уничтожили орден тамплиеров.
Старший брат, Ангерран де Мариньи, принадлежал к числу тех немногих людей, которые могут быть уверенными в том, что еще при жизни войдут в историю, ибо сами делают историю. И сейчас, при мысли о том, из каких низов общества он вышел и каких вершин достиг, его охватывала гнетущая печаль. «Государь Филипп, король мой, – мысленно обращался он к гробу, скрывавшему останки его господина, – я служил вам верой и правдой, и вы давали мне самые высокие поручения, осыпали меня бессчетными милостями и благодеяниями. Дни и ночи мы трудились вместе. Одинаково думали мы об одних и тех же предметах, случалось, мы совершали ошибки, но мы старались их исправлять. Клянусь вам защищать то дело, о котором мы пеклись совместно, продолжать его вопреки воле тех, кто поспешит на него ополчиться. Но до чего же я теперь одинок!» Недаром Ангерран де Мариньи был наделен страстями политика – он мыслил о Франции так, как будто был вторым ее государем.
Эгидий де Шамбли, аббат Сен-Дени, преклонив колена у могилы, осенил ее последним крестным знамением. Потом поднялся, махнул рукой могильщикам, и тяжелый плоский камень закрыл собой четырехугольное темное отверстие.
Никогда больше не услышит Людовик X пугающего до дрожи голоса своего отца, приказывавшего ему: «Помолчите, Людовик!»
Но вместо чувства облегчения его охватил страх. В эту минуту кто-то произнес над его ухом:
– Идите, Людовик!
Он вздрогнул всем телом – это Карл Валуа окликнул нового короля, показав жестом, что ему следует выйти вперед. Людовик обернулся к дяде и прошептал:
– При вас отец вступил на царство. Что он сделал? Что сказал в ту минуту?
– Он сразу же взял на себя всю тяжесть королевской власти, – ответил Карл Валуа.
«А ему шел тогда всего девятнадцатый год… он был моложе меня на целых семь лет», – подумал Людовик X. Чувствуя на себе любопытные взгляды присутствующих, он усилием воли выпрямил стан и двинулся вместе со своей свитой, состоявшей из монахов, которые, потупив головы, засунув руки в рукава сутан, шли вслед за королем, распевая псалмы. Они пели без передышки целых двадцать четыре часа и уже начинали фальшивить.
Из базилики траурный кортеж проследовал в капитульную залу аббатства, где был накрыт стол для поминок, традиционно завершавших погребальный обряд.
– Государь, – обратился к Людовику аббат Эгидий, не доведя его до места, – отныне мы будем возносить две молитвы: одну за того короля, которого призвал к себе Господь, а другую за того, кого Он ныне послал нам.
– Благодарю вас, святой отец, – ответил Людовик X не совсем уверенным тоном.
Потом с усталым вздохом он опустился на приготовленное ему место, потребовал воды и осушил чашу залпом. В продолжение всей поминальной трапезы он сидел молча, не прикасаясь к пище, зато все время пил воду. Его лихорадило, и он чувствовал себя разбитым душой и телом.
«Король должен быть крепок телом», – не раз говаривал Филипп Красивый сыновьям в те времена, когда они еще не были посвящены в рыцари и жаловались на усталость после утомительных упражнений в стрельбе из лука, фехтовании или вольтижировке. «Король должен быть крепок телом», – твердил про себя Людовик X в эти минуты, которыми начиналось его царствование. Он принадлежал к числу тех людей, у которых усталость легко переходит в раздражение, и со злобой подумал, что коль уж ему оставили в наследство трон, то должны были бы озаботиться дать достаточно сил, дабы он с достоинством восседал на этом троне. Да и кто, не обладая богатырской силой, мог бы пережить эту последнюю неделю и не сломиться?
Безжалостный ритуал требовал от нового государя, вступающего на отцовский престол, поистине нечеловеческих усилий. Людовику пришлось присутствовать при последних минутах отца, принять от него тайну «королевского чуда», подписать завещание[5] и в течение двух дней вкушать пищу подле набальзамированного трупа Филиппа. Потом водный путь из Фонтенбло в Париж, куда перевезли тело Филиппа Красивого, утомительные шествия и ночные бдения, церковные службы, бешеная скачка – и все это в самый разгар зимы, когда кони вязнут в грязи, смешанной со снегом, когда от порывов ветра перехватывает дыхание, а снег упорно сечет лицо.
Поэтому-то Людовик X от души восхищался своим дядей Валуа, который в течение всех этих дней ни на минуту не покидал племянника, умело разрешал все вопросы, пресекая все споры о местничестве, неутомимый, волевой, поистине страшный в своей вездесущности.
Казалось, именно его, Карла Валуа, природа наделила энергией, необходимой королям. Уже сейчас в беседе с аббатом Эгидием он заботился о миропомазании Людовика, хотя оно должно было состояться только будущим летом. Ибо аббатство Сен-Дени было не только усыпальницей французских королей, но и хранилищем орифламмы – знамени Франции, – которая торжественно извлекалась на свет божий, когда король отправлялся в поход. Здесь же сберегали одеяния и все атрибуты, требуемые при миропомазании. Граф Валуа вмешивался во все. Не нуждается ли в переделке мантия? В полном ли порядке ларцы, в которых будут перенесены в Реймс скипетр, шпоры и держава? А корона? Пусть незамедлительно золотых дел мастера снимут мерку с головы Людовика и подгонят корону под его размер. Ах, как бы хотелось его высочеству Валуа возложить королевскую корону на свое собственное чело! И он хлопотал вокруг племянника, как хлопочут вокруг новобрачной старые девицы, потерявшие надежду выйти замуж, – то подколют волан, то расправят шлейф…
Аббат Эгидий, почтительно слушая распоряжения Валуа, искоса поглядывал на молодого короля, которого снова начал бить кашель, и думал: «Приготовить-то все для миропомазания недолго, только дотянет ли он до лета?»
Когда поминки окончились, Юг де Бувилль, первый камергер Филиппа Красивого, поднялся с места – ему предстояло сломать перед Людовиком X свой резной жезл, что должно было ознаменовать окончание его обязанностей при королевской особе. Глаза толстяка Бувилля застилали слезы, руки тряслись, и он трижды пытался переломить свой деревянный жезл, подобие и символ золотого скипетра короля. Опустившись рядом с молодым Матье де Три, назначенным на должность первого камергера Людовика, толстяк шепнул ему:
– Вам теперь, мессир, честь и место.
Присутствующие поднялись, вышли во двор, где их уже ждали кони, и кортеж тронулся в последний путь. Не так-то много народу собралось на улицах Сен-Дени, чтобы приветствовать Людовика криками: «Да здравствует король!» Хватит вчерашнего дня, и так успели намерзнуться накануне зеваки, сбежавшиеся поглазеть на траурное шествие, голова которого появилась в воротах аббатства, когда хвост еще тащился через заставы Парижа; сегодняшнее торжество не сулило ничего интересного. С неба начал падать не то снег, не то дождь, от которого насквозь промокала одежда; на улицах остались только самые рьяные зеваки или же те, что, стоя под навесом крыльца, могли приветствовать нового государя, не рискуя вымокнуть до нитки.
С юных лет, с того самого времени, когда Людовик узнал, что ему суждено стать королем, он не переставал мечтать о том, как в сиянии солнца славы торжественно въедет в свою столицу. И когда Железный король одергивал сына, сурово выговаривая ему: «Людовик, не будьте таким сварливым!» – сколько раз он, сын, желал смерти отцу, сколько раз думал: «Когда получу власть, все изменится и люди увидят, каков я есть».
И вот Людовика уже провозгласили королем, а он так и не почувствовал перемены, превратившей его во владыку Франции. Ничего не переменилось, разве что он испытывал сегодня еще большую слабость, еще тягостнее стало ощущение неуверенности в своем непривычном величии да откуда-то нахлынули мысли об отце, столь мало любимом при жизни.
Бессильно уронив голову на грудь, дрожа всем телом, он вел коня через пустынные нивы, где только кучи соломы черными пятнами выделялись на непорочно-белой пелене, и казалось, это скачет впереди своего разбитого войска чудом уцелевший полководец.
Наконец показались первые домишки парижской окраины, и кортеж проехал заставу. Но парижане проявили не больше ликования, чем жители Сен-Дени. Да и чему, говоря откровенно, было радоваться? Раньше срока наступившая зима затруднила подвоз припасов, и смерть привольно разгуливала по столице. Год выдался неурожайный; съестные припасы становились редкостью, а цены на них все росли. Голод стоял у ворот Парижа. А то немногое, что знал народ о новом короле, отнюдь не давало надежды на лучшие времена.
Говорили, что Людовик – человек вздорный и мелочно-злобный, откуда и пошла его кличка Сварливый, просочившаяся из дворца в город. Никто не мог назвать случая, когда бы он совершил великодушный или хотя бы разумный поступок. Единственное, что принесло ему печальную славу, – это титул обманутого мужа, который, обнаружив измену, велел после жестоких пыток утопить в Сене всю свою челядь, заподозренную в попустительстве изменнице.
«Поэтому-то они меня и презирают, – твердил про себя Людовик X, – презирают из-за этой потаскухи, которая надо мной надругалась и выставила на посмешище всему свету… Ничего, не любят так, полюбят силой, они у меня еще попляшут, будут славить меня на все лады, точно души во мне не чают. А прежде всего мне нужно взять себе новую супругу, дать народу новую королеву, чтобы смыть позор бесчестья».
Увы! Отчет, который ему накануне, по возвращении из Шато-Гайара, сделал граф Артуа, оставлял мало надежд на быструю и безболезненную развязку. «Ничего, шлюха согласится: прикажу так с ней обращаться, так велю ее мучить, что непременно согласится».
Спускалась ночь, и лучники зажгли факелы. Пронесся слух, что при проезде короля будут кидать в толпу серебряные монеты, и поэтому на перекрестках улиц собирался кучками нищий люд в немыслимых отрепьях, сквозь которые просвечивало голое тело. Но никто даже грошика не кинул.
Печальный кортеж при свете факелов, проехав через Шатле и мост Менял, достиг наконец королевского дворца.
Опершись о плечо конюшего, Людовик X спрыгнул на землю, и вся кавалькада тут же рассыпалась. Первой подала пример графиня Маго, объявив, что всем необходимо хорошенько согреться и отдохнуть и что она лично возвращается к себе в отель Артуа.
Воспользовавшись удачным предлогом, отправились по домам бароны и прелаты. Даже братья нового короля удалились к себе. Итак, когда Людовик X вступил в королевский дворец, за ним последовал только строй лучников и слуг, его дядья – Валуа и д’Эвре – и Ангерран де Мариньи.
Они прошли через Гостиную галерею, почти безлюдную в этот час и поэтому особенно огромную. С десяток торговцев, после неудачного дня запиравших сундуки, скинули шапки и, собравшись у входа, дружно крикнули: «Да здравствует король!» Но под величественными арками галереи их голоса прозвучали до странности слабо.
Сварливый медленно продвигался вперед, ноги в слишком тяжелых сапогах не повиновались ему, тело горело в лихорадке. Он обернулся направо-налево, вновь оглядел непомерно высокие статуи сорока королей, которые, начиная с Меровингов, правили Францией, – статуи, по приказу Филиппа Красивого воздвигнутые здесь вдоль стен при входе в королевское жилище, дабы каждый понимал, что здравствующий ныне государь является законным продолжателем священного рода, призванного к власти самим Господом Богом.
Это сборище каменных колоссов – предков, глядевших белесыми в свете факелов глазами, – лишь усиливало смятение несчастного живого, из плоти и крови, принца, их наследника, только что вступившего на престол.
Какой-то торговец обратился к своей жене:
– У нашего нового короля не особенно-то здоровый вид.
Его супруга, усердно дуя на замерзшие пальцы, прекратила свое занятие и ответила тем насмешливо-злым тоном, которым охотно говорят женщины по адресу несчастных мужей – несчастных именно по вине жен:
– Для рогоносца сойдет!
Хотя супруга торговца говорила не очень громко, ее пронзительный голос отчетливо прозвучал в тишине. Сварливый резко обернулся, щеки его побагровели, но напрасно старался он разглядеть дерзкого, осмелившегося произнести при нем роковые слова. Люди его свиты поспешно опустили глаза, делая вид, что ничего не слышали.
Кортеж достиг главной лестницы. По обе стороны монументального входа, как бы обрамляя его, высились две статуи: Филиппа Красивого и Ангеррана де Мариньи, ибо главный правитель королевства был удостоен высшей чести – еще при жизни в Галерее исторической славы воздвигли его изображение напротив изображения его господина.
Вряд ли кому-либо вид этой статуи был столь ненавистен, как его высочеству Карлу Валуа, и всякий раз, когда силой обстоятельств он бывал вынужден проходить мимо, его охватывало негодование против хитрого горожанина, вознесенного на столь неподобающую высоту. «Только такой лукавец и интриган мог дойти до подобного бесстыдства. Стоит здесь, словно он нашей крови, – думал Валуа. – Ничего, мессир, ничего, мы сбросим вас с постамента, тому порукой мое слово, и в недалеком будущем вы убедитесь, что время вашего зловещего лжевеличия прошло безвозвратно».
– Мессир Ангерран, – сказал он вслух, высокомерно глядя на своего недруга, – не кажется ли вам, что королю угодно побыть сейчас в семейном кругу?
Под словами «семейный круг» он подразумевал лишь его высочество д’Эвре, Робера Артуа и себя самого.
Мариньи сделал вид, что не понял этого прямого намека. Желая избежать стычки и в то же время подчеркнуть, что только один король вправе приказывать ему, он громко произнес:
– Множество неотложных дел призывают меня, государь. Разрешите удалиться?
Людовику было не до того: слова торговки не переставали звучать в его ушах. Вряд ли даже он сумел бы повторить вопрос Мариньи.
– Действуйте, мессир, действуйте, – нетерпеливо бросил он.
И стал подыматься по ступеням, ведущим в опочивальню.
Глава V
Принцесса, живущая в Неаполе
В последние годы своего царствования Филипп Красивый полностью перестроил старинное здание дворца на острове Сите. Человек скромных потребностей, более того, проявлявший чуть ли не скаредность в личных расходах, он, когда речь шла о вящем возвеличении идеи монархии, не останавливался ни перед какими тратами. Огромный дворец, этакая давящая все вокруг громада, был выстроен под стать собору Парижской Богоматери: там жилище Богово, здесь жилище короля. Внутренние покои дворца имели еще совсем новый, необжитой вид: все было пышно и мрачно.
«Мой дворец», – думал Людовик X, оглядываясь вокруг. После перестройки дворца он еще не жил здесь, ибо ему был предоставлен Нельский отель, доставшийся в наследство от матери вместе с короной Наварры. И теперь он разгуливал по этим огромным апартаментам, которые, с тех пор как он вступил во владение ими, представали перед ним в новом виде.
Людовик открывал одну за другой тяжелые двери, пересекал гигантские залы, под сводами которых гулко отдавались шаги: он миновал Тронный зал, зал Правосудия, зал Совета. Позади него в молчании шествовали Карл Валуа, Людовик д’Эвре, Робер Артуа и новый его камергер Матье де Три.
По коридорам бесшумно скользили слуги, по лестницам сновали писцы, но голосов не было слышно, во дворце еще царило траурное молчание, сковывавшее уста его обитателей.
В окна падал слабый свет – это в ночном мраке мерцали витражи часовни Сент-Шапель.
Торжественное шествие окончилось в сравнительно небольшой по размерам опочивальне, здесь обычно трудился покойный король. В камине, где свободно поместилась бы целая бычья туша, ярко пылало пламя, и наконец-то можно было согреться у огня, за надежным заслоном ивового экрана, скинуть промокшую насквозь одежду и спокойно усесться у очага. Людовик приказал Матье де Три принести сухое платье; мокрое он сбросил и повесил на экран перед камином. Дядья и Робер Артуа последовали примеру короля, и вскоре над плотными промокшими тканями, бархатом плащей, мехами, богато затканными кафтанами поднялся пар, а четверо мужчин в одних рубахах и коротких штанах, похожие на обыкновенных крестьян, вернувшихся домой с поля, так и этак вертелись перед огнем, подставляя его ласке то один, то другой бок.
На кованой железной подставке, имевшей форму треугольника, мерцали свечи, и свет их мягко озарял королевские покои. На колокольне Сент-Шапель зазвонили к вечерне.
Вдруг в дальнем, неосвещенном углу комнаты раздался долгий, прерывистый вздох, скорее даже стон. Присутствующие невольно вздрогнули, и Людовик X, не сумев удержать страх, пронзительно вскрикнул:
– Кто там?
В эту минуту вошел Матье де Три в сопровождении слуги, несшего сухое платье. Услышав крик короля, слуга поспешно опустился на четвереньки и вытащил из-под дивана борзую: огромный пес угрожающе выгнул спину и ощетинился, глаза у него горели.
– Сюда, Ломбардец, ко мне!
Это и впрямь был Ломбардец, любимая собака покойного государя, дар банкира Толомеи, тот самый Ломбардец, который находился при Филиппе, когда он, охотясь в последний раз, внезапно лишился чувств.
– Ведь собаку четыре дня держали взаперти в Фонтенбло, каким образом она могла очутиться здесь? – в бешенстве спросил Людовик Сварливый.
Кликнули конюшего.
– Государь, пес вернулся вместе со всей сворой, – пояснил конюший, – и никого не слушается. Бежит от человеческого голоса и со вчерашнего дня куда-то исчез, а куда – я и не знал.
Людовик велел немедленно увести Ломбардца и запереть его в конюшне; и так как огромный пес упирался, царапая когтями пол, король прогнал его из опочивальни пинками.
С детства Людовик питал лютую ненависть к собакам: однажды он забавы ради пробил гвоздем ухо какого-то пса и был укушен непочтительным животным.
В соседней комнате послышались голоса. В полуоткрытой двери показалась трехлетняя девчушка в слишком тяжелом для нее, негнущемся траурном платье; нянька легонько подтолкнула дитя к королю.
– Идите, мадам Жанна, идите поздоровайтесь с его величеством королем, вашим батюшкой! – шепнула она.
Четверо мужчин как по команде обернулись к бледненькой девчушке с непомерно большими глазами, к этому еще несмышленому существу, к теперешней единственной наследнице французского престола.
У Жанны был круглый выпуклый лоб – это, пожалуй, единственное, что позаимствовала она у Маргариты Бургундской; цветом кожи и цветом волос она резко отличалась от брюнетки матери. Ковыляя, она направилась к королю, оглядывая людей и встречные предметы беспокойно-недоверчивым взглядом, столь характерным для нелюбимых детей.
Людовик X движением руки отстранил дочь.
– Зачем ее сюда привели? Я не желаю ее видеть! – заорал он. – Пусть ее немедля отвезут в Нельский отель, пусть там и живет, коль скоро там…
Он хотел было добавить: «Коль скоро там мать зачала ее в распутстве», но удержался и молча проводил взглядом няньку, уносившую девочку.
– Не желаю видеть это чужое отродье, – добавил он.
– А вы уверены в этом, Людовик? – спросил его высочество д’Эвре, отодвигая от огня одежду из боязни, как бы она не загорелась.
– С меня довольно уже одного сомнения, – отозвался Людовик Сварливый, – и я не признаю, слышите, не признаю ничего, что имеет отношение к изменившей мне жене.
– Однако девочка пошла в нас – она блондинка.
– Филипп д’Онэ тоже был блондин, – желчно возразил король.
– Должно быть, брат мой, у Людовика есть вполне веские доказательства, раз он так говорит, – заметил Карл Валуа.
– И, кроме того, – закричал Людовик, – не желаю я больше слышать того слова, что бросили мне вслед! Не желаю читать его во взглядах людей. Пусть даже повода не будет к таким мыслям.
Его высочество д’Эвре замолк. Он думал о маленькой девочке, которой предстояло жить в обществе слуг в огромном и неприютном Нельском отеле. Вдруг он услышал слова Людовика:
– Ах, до чего же я буду здесь одинок!
С привычным удивлением взглянул Людовик д’Эвре на своего племянника, на этого неуравновешенного человека, поддающегося любому злобному движению души, копящего малейшие обиды, как скупец золотые монеты, гнавшего прочь собак, потому что когда-то одна укусила его, прогнавшего прочь собственного ребенка только потому, что был обманут женой, и жаловавшегося теперь на одиночество.
«Будь у него другой нрав и больше доброты в сердце, – думал д’Эвре, – может быть, и жена любила бы его».
– Вся тварь живая одинока на сей земле, – торжественно произнес он. – Каждый из нас одинок в свой смертный час, и лишь гордец мнит, будто он не одинок во всякий миг своего существования. Даже тело супруги, с которой мы делим ложе, остается нам чужим; даже дети, коих мы зачинаем, и те нам чужие. Того, бесспорно, возжелал Творец, дабы мы общались только с Ним и только в Нем становились бы едины… И нет нам иной помощи, как в милосердии и в мысли, что и другие существа мучаются тем же злом, что и мы.
Людовик Сварливый недовольно пожал плечами. Дядя д’Эвре в качестве утешения вечно предлагает вам Господа Бога, а в качестве всеисцеляющего средства – христианское милосердие. Чего же от него после этого ждать?
– Конечно, конечно, дядя, – ответил он. – Но боюсь, что ваши увещевания вряд ли могут помочь мне в моих заботах.
Затем он резко повернулся к Роберу Артуа, который, стоя спиной к огню, весь дымился, словно гигантская суповая миска, и спросил:
– Стало быть, Робер, вы утверждаете, что она не уступит?
Артуа утвердительно кивнул:
– Я уже докладывал вам вчера вечером, государь мой, что я всячески старался повлиять на мадам Маргариту, и все зря; я даже пытался прибегнуть к самым веским аргументам, имеющимся в моем распоряжении. – Последние слова прозвучали насмешливо, но смысл заключенной в них иронии остался понятен лишь самому Роберу. – Однако я натолкнулся на такое упорство, на такое нежелание согласиться с нашими условиями, что с полным основанием могу заявить: ничего мы от нее не добьемся. А знаете, на что она рассчитывает? – коварно добавил он. – Надеется, что вы скончаетесь раньше ее.