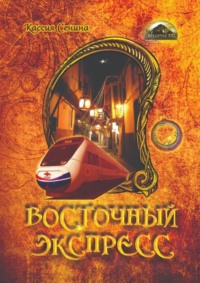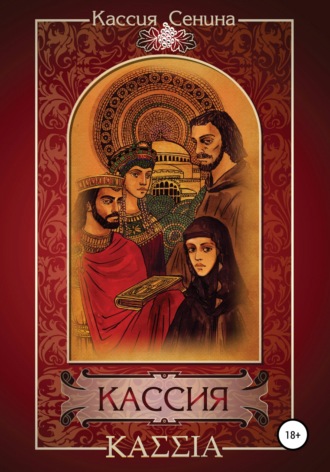
Полная версия
Кассия
…Феодор только что вычитал по памяти службу шестого часа, когда двери его кельи распахнулись и вошли два спафария. Опальный игумен уже несколько дней жил вместе с Григорием в большой светлой келье одного из монастырей в предместье Константинополя: Студита перевели сюда в начале мая приказом императора. Тогда же Платон был переправлен с Оксии в один из столичных монастырей, и отныне узникам предоставлялись все условия для нормальной жизни, хотя под надзором.
– Ну вот, – сказал Феодору при прощании игумен Иоанн, – государь, похоже, смягчился.
– Или испугался.
– Испугался? Чего же он мог испугаться?
Вместо ответа Феодор чуть заметно улыбнулся. Халкитский игумен не очень разбирался в положении дел и, хотя поддерживал связь с экономом Иосифом и монахом Симеоном, получал от них далеко не все сведения о происходивших событиях; Феодор знал о них гораздо лучше своего стража и прекрасно понимал, что означал жест императора. Теперь, когда шел уже третий год после разгона Студийского монастыря, их положение было далеко не таким, как после «соборища прелюбодействущих». Сейчас у них была сильная поддержка, и не из какого-то сброда, а из людей достойных и благочестивых; за ними стояли исповедники, бичеванные за протест против решений пресловутого собора; им открыто сочувствовали не только многие монахи и игумены, но и некоторые епископы; неявных же сторонников их взглядов, в том числе из знатных лиц, было еще больше. Императору, пережившему за годы царствования уже несколько заговоров против своей власти, было чего опасаться.
– Благодарю тебя, господин Иоанн, за все твои услуги и благодеяния нам! – сказал Феодор. – Но жаль, что ты так и не понял неправоты прелюбодейного собора и этим лишил себя тех венцов, которые мог бы стяжать в борьбе за истину Божию. Впрочем, да не лишит тебя Господь той награды, обещанной за чашу холодной воды, поданную во имя ученика!
Иоанн в изумлении посмотрел на Студита.
– Феодор! – воскликнул он. – Вот уже два года я наблюдаю за тобой и не перестаю удивляться… Скажу правду: я восхищался тобой, хоть и не понимал тебя! Из-за такой мелочи пойти на такие лишения! Да, я восхищался тобой и даже… не раз испытывал ощущение, что ты действительно победишь, как ты говоришь… Хотя это противно всякой логике!
– «Соглашаюсь, душой несогласный»?
– Да… Да! Несогласный! Ты всегда, с самого начала и до сего дня держался так, будто не ты, а мы являемся осужденными Церковью! Но подумай, ведь и сейчас ты идешь не на свободу, а на новое место ссылки, пусть и ближе к Городу… Неужели ты думаешь, что император с патриархом признают твою правоту?
– Да, господин, пока я и правда иду опять в ссылку, но приближается время, когда не только ты, но и вся вселенная увидит, кто был прав пред Богом. А решения собора, которыми ты прикрываешься, «исчезнут с шумом, и память их погибнет». Что же до императора… – Феодор замолк и, сощурившись, посмотрел вдаль. Они с Иоанном стояли на монастырской пристани, у которой покачивалось небольшое судно, которое должно было доставить Феодора и брата Григория на константинопольский берег. Стратиоты ожидали, пока узник простится с Халкитским игуменом, а случившиеся тут же несколько братий, только что воротившиеся с рыбной ловли, кто с любопытством, кто с жалостью, кто с тайным сочувствием, смотрели на Феодора. Григорий стоял чуть поодаль и прислушивался к прощальному разговору своего игумена с Иоанном. Перед Феодором расстилалась морская гладь, небо было ясным и прозрачным, и так же ясно было в душе узника. Он вновь взглянул на Иоанна и сказал: – «Видел я нечестивого, превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и прошел мимо, и се, нет его, и поискал его, и не нашлось место его»! Настанет время, и оно уже близко, когда ты, господин Иоанн, вспомнишь эти слова. Прощай!
Поклонившись игумену, Феодор взошел на судно. Григорий тоже простился с Иоанном и последовал за Студитом. Когда они заняли указанные им стратиотами места, Григорий спросил:
– Отче, а откуда это: «Соглашаюсь, душой несогласный»?
– Из «Илиады».
– А! Ты и оттуда…
– Да, я многое помню с молодости… Хотя кое-что предпочел бы забыть.
Халкитский игумен некоторое время смотрел вслед уплывавшему судну, а потом повернулся к своим монахам и сказал чуть раздраженно:
– Что столпились? А ну, быстро на послушания!
Братия вернулись к сетям и рыбе, а Иоанн стал подниматься по дорожке в гору, к монастырю, и тут вспомнил о пергаменте, который вручил ему Феодор «на память», покидая келью, где провел много месяцев. Небольшой лист, свернутый трубочкой, Иоанн так и нес в руке. Он остановился, развернул лист и прочел:
«К тюрьме на острове Халки:Заключила ты, келья, меня, странника, против ожидания,Я же нашел тебя приятнейшим жилищем.Град Византий бросает меня сюда,Сия же безвестная изгоняет страсти.Темница для меня – лишь тело,А место, данное мне, всякое равно,Ибо всецело Божие, и я Его есмь странник».Попутный ветер надувал паруса судна, уносившего Божия странника к очередному месту жительства; остров Халки быстро уменьшался в размерах, и всё ближе сверкал на солнце купол Великой церкви…
И вот, теперь прибывшие к Феодору спафарии, говорили всё те же речи, которые он слышал еще до злополучного собора от монаха Симеона и иных доброжелателей: его призывали уступить, то пугая новой ссылкой, то обещая в случае согласия возвратить игуменство в Студии.
– Напрасно вы трудитесь, господа, – ответил игумен. – Я остаюсь при своем мнении, которое вам хорошо известно. Вы говорите, государь отбывает в военный поход? Что ж… Жаль, что он и сам не хочет раскаяться в своем заблуждении, и других продолжает склонять к тому же. А потому передайте ему: «Не возвратишься тем путем, каким идешь ты ныне»!
Вечером 26 июля четвертого индикта запыленный гонец на взмыленном коне принес в Константинополь новость, потрясшую всех граждан и вызвавшую переполох во дворце: ночью во время сражения с болгарами ромейское войско было разбито, причем враги учинили страшную резню – были убиты несколько знатных патрикиев, стратиг Анатолика, доместик экскувитов, друнгарий виглы, многие архонты фемных отрядов и множество простых стратиотов; часть воинов попала в плен, и лишь немногие смогли спастись бегством. Император Никифор пал, а его сын и соправитель Ставракий был тяжело ранен.
Никифор стал первым со времен Валента императором ромеев, убитым на войне с варварами, – уже одно это наводило на всех ужас и уныние. Константинополь огласился воплями вдов и сирот. А спустя немного времени до столицы дошла еще одна ужасная новость: болгарский хан Крум сделал из черепа убитого императора чашу, оковал серебром и пил из нее со своими военачальниками. И тогда же по Городу распространился с быстротой молнии новый слух – видимо, его источником были те самые спафарии, которых император посылал перед походом на переговоры к Студийскому игумену: Феодор предсказал императору, что тот не вернется с войны – и это будет карой за гонения на студитов!
Монах Симеон, страшно напуганный, каждому встречному говорил:
– Увы нам, увы и горе! Господь покарал нас за гонения на угодников Его! Не будет к нам благоволения Божия, пока длится церковный раскол!
Сам же Феодор, узнав о том, какая судьба постигла императора, перекрестился и сказал:
– Да помилует его Господь и да простит согрешения его за скорбь кончины… Но это – возмездие Божие и урок прелюбодейникам!
13. «Злой недуг»
Нам следует поддерживать законы,
И женщине не должно уступать.
Уж лучше мужем буду я повергнут,
Но слыть не стану женщины рабом.
(Софокл)
2 октября пятого индикта рано утром Ставракий был разбужен испуганным шепотом:
– Государь! Государь, проснись!
Ставракий открыл глаза, приподнял голову и увидел перед собою смущенное лицо монаха Симеона.
– Государь, – задыхающимся голосом сказал инок, – я должен тебе сообщить, что… ты уже более не император…
– Как?!
– Только что на ипподроме Синклит и всё войско провозгласили Михаила Рангаве, и сегодня же будет коронация!
– А! – выдохнул Ставракий, откидываясь на подушки. – Предатели! Стефан донес… Сестрица добилась-таки своего! Ну, посмотрим, долго ли она будет наслаждаться порфирой… Но Боже мой!
Ставракий с трудом повернулся, засунул руку под перину и достал оттуда длинный узкий кинжал с рукояткой из слоновой кости. Симеон охнул и сделал было движение к нему, но Ставракий усмехнулся и проговорил:
– Не бойся, я не для этого… Лучше пойди поскорей, раздобудь мне рясу!
С этими словами Ставракий обрезал себе волосы, отбросил в сторону кинжал и спутанные темные пряди и опять упал на подушки. Симеон всё понял и мгновенно исчез за дверью. А бывший император сжал кулаки, ударил ими несколько раз по ложу и заплакал от злости и бессилия.
В ту ночь, когда император Никифор погиб от рук болгар, его сын был ранен копьем в спину и, едва избежав смерти, с трудом добрался до Адрианополя. Доместик схол Стефан и магистр Феоктист немедленно провозгласили Ставракия самодержцем. Войско присягнуло императору, воодушевленное речью, которую он, морщась от боли в ране и часто останавливаясь передохнуть, произнес перед воинами, обещая исправить несправедливости, сделанные его отцом, выплатить задержанное жалование и уменьшить денежные поборы. В числе прочих присягнул Ставракию и муж его родной сестры Прокопии – куропалат Михаил Рангаве. Однако друзья Михаила почти сразу предложили ему принять власть, говоря, что Ставракий тяжело ранен и вряд ли выживет, да и к царствованию не способен по причине недалекого ума и скверного характера. Но Михаил не соглашался, ссылаясь на данную императору присягу, из-за чего у него вышла стычка с женой.
– Трус! – кричала Прокопия. – Ты предпочитаешь служить этому бездарному дурню, моему братцу – чтоб его вороны унесли! – вместо того чтобы взять власть, которую принесли тебе на блюде!
Злые языки передавали, что после этого разговора куропалат не досчитался многих волос в бороде… Но его поддержал доместик схол: Стефан надеялся, что Ставракий еще выживет, и не хотел идти на риск, зная, что Михаил – человек бесхарактерный, а значит, на деле править в Империи будут другие люди.
Между тем у Ставракия отнялись ноги, и в столицу он был доставлен на носилках. Патриарх, посетив его, советовал молиться Богу и поскорей утешить ограбленных покойным императором:
– Ты ведь знаешь, государь, что говорит апостол: «Хвалится милость на суде».
Намек был довольно прозрачен, но Ставракий не торопился утешать обиженных – он еще надеялся остаться в живых. А Прокопия не теряла времени даром: в первую очередь, она склонила Феоктиста на сторону своего мужа, пообещав «во всем слушаться мудрых советов» магистра. Феоктист, размыслив о выгодах для себя при воцарении Михаила, с которым они были давними и близкими друзьями, причем дружба была неравной – Михаил почти всегда подчинялся суждениям Феоктиста, – не заставил долго себя уговаривать. К тому же он знал о почтении, которое Михаил и его родня питали к сосланному Студийскому игумену, и надеялся, что с восшествием на престол Рангаве будет наконец-то покончено с церковным расколом. Феоктист имел большое влияние при дворе и принялся увещевать синклитиков принять сторону Михаила, из-за чего сильно разругался с доместиком схол.
– Ты хочешь попасть под пяту к этой бабе! – гневно прошипел Стефан, который терпеть не мог заносчивую и властолюбивую Прокопию. – Тупица! Она нас всех сожрет и не подавится!
– Зря ты кипятишься, господин, – посмеиваясь, отвечал Феоктист. – К сестре легче найти подход, чем к братцу… Сам увидишь!
Действительно, император, и без того упрямый и несговорчивый, стал попросту несносен – может быть, от мучений, причиняемых ему раной. Он бранил и Феоктиста, и Стефана, и собственную сестру, которую в конце концов выгнал, повелев больше не впускать к себе: до него дошли слухи, что Прокопия домогается царства. Тем временем императрица Феофано, жена Ставракия, отчаявшись в его жизни, принялась размышлять о том, как бы самой воцариться после его смерти, подобно покойной августе Ирине, хотя была бездетна. Она стала уговаривать мужа распорядиться, чтобы престол остался за ней. Узнав об этом, доместик схол возмутился:
– Ну, нет! «Не дам я женщине собою править!» Лучше уж Михаил с его бабой, чем опять баба на троне единолично!
Император, заподозрив неладное, призвал Стефана к себе и спросил, как бы устроить так, чтобы Михаил Рангаве из дворца Манганы, где он жил, был приведен в Священный дворец и ослеплен.
– Ибо я окончательно уверился, – сказал Ставракий, – что он злоумышляет против нашей державы.
Доместик возблагодарил Бога, что в покоях императора был полумрак: горел только один светильник, поскольку Ставракий, по своему болезненному состоянию, не выносил яркого света, и даже днем окна были закрыты тяжелыми занавесями. Едва справившись с волнением, Стефан сказал, что в настоящее время желание императора осуществить нельзя: Михаил окружен телохранителями, а дворец у него как крепость, так что лучше выждать до утра. Император согласился, хотя был очень недоволен, и просил доместика никому не говорить о его намерении. Стефан всячески успокоил Ставракия и, выйдя из его покоев, немедленно отправился к патриарху.
Никифор только недавно вернулся к себе из храма Святой Ирины, где служил вечерню. Стефан попросил его отослать келейника и наедине доложил патриарху обстановку во дворце.
– Да, – сказал Никифор, – государь не пожелал исправить ошибки отца, но, видно, готов еще и усугубить их… Увы!
Взгляды доместика схол и патриарха встретились. Стефан улыбнулся одними краями губ и подошел под благословение.
– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! – тихо произнес патриарх.
Всю ночь доместик собирал войска и архонтов на крытом ипподроме, а утром Синклит собрался во дворце, и Михаил Рангаве был провозглашен императором.
Когда новый василевс вместе с супругой и патриархом пришли к Ставракию, они застали бывшего императора уже в монашеской одежде. Ставракий, хоть и жалобным тоном, разразился упреками в адрес пришедших. Патриарх принялся утешать низложенного василевса, уверяя, что случившееся – следствие того, что все отчаялись в его жизни. Он говорил, что новый император приложит все усилия, чтобы соответствовать высокому званию и поистине быть другом Божиим и отцом для подданных, и постарается разрешить те затруднения, с которыми не успели справиться Ставракий и его отец. Рангаве согласно кивал в такт речи патриарха.
– Государь надеется, – говорил Никифор, – справиться и с церковной смутой…
Тут Ставракий, злобно усмехнувшись, прервал речь патриарха:
– О, да, тут ты не найдешь друга лучше него!
Прокопия поджала губы, метнув в умирающего брата гневный взгляд. Михаил смутился и с беспокойством взглянул на патриарха. Намек Ставракия был понятен, ведь и семейство Рангаве, и магистр Феоктист благоволили к студийским изгнанникам, а значит, прекращение раскола могло обернуться не совсем желательным для святейшего образом…
«Ты не хотел уступить моему отцу, когда он искал примирить тебя с Феодором, так теперь уступишь этому… да еще как уступишь!» – думал Ставракий, глядя на патриарха. Никифор, однако, никак не отозвался на выпад бывшего василевса. Сказав еще несколько общих фраз, он поспешил откланяться; Михаил и Прокопия тоже не задержались у Ставракия.
Спустя два часа Рангаве был коронован в Великой церкви, и начались обычные по такому случаю торжества, затянувшиеся до позднего вечера. Многие не спали в ту ночь, бодрствовал и монах Симеон. Сидя в своей келье, родственник двух императоров, из которых один доставил язычникам радость пить вино из своего черепа, а другой умирал от раны, всеми брошенный и почти забытый, шепотом читал при светильнике книгу Екклесиаста, и слезы текли по его щекам, падая на шерстяную мантию: «Есть лукавство, которое видел я под солнцем, и часто оно бывает между людьми: муж, коему даст Бог богатство и имение и славу, и нет для души его лишения ни в чем, чего бы ни вожделел он; но не даст ему Бог власти вкусить от сего, ибо чужой муж вкусит всё сие. И сие суета и злой недуг есть…»
…На другой день после коронации император имел разговор с патриархом.
– Святейший, – сказал Михаил, – меня очень беспокоит церковное разделение, возникшее при прежних государях. Думаю, пора покончить с этой язвой на теле церковном. Надеюсь, вы с господином Феодором найдете общий язык!
– Не знаю, государь, – ответил патриарх. – Это зависит не только от меня.
Через неделю игумен Феодор явился во дворец с избранными из братий, постепенно возвращавшихся из мест ссылки в родную обитель. В Магнавре уже собрались император и высшие сановники, ожидали патриарха. Феодор и братия поклонились василевсу и по его приглашению молча встали на указанное им место. Казалось, их нисколько не смущало, что все собравшиеся буравили их взглядами – изучающими, подозрительными, любопытными, осуждающими, восхищенными… Патриарх, войдя, сразу прошел поприветствовать императора; придворные, в свою очередь, приветствовали главу Константинопольской Церкви. Студиты продолжали стоять, не двигаясь с места. Наконец, патриарх повернулся к ним и встретился взглядом с Феодором.
– Ты знаешь, – сказал император вечером жене, – я смотрел на них и не мог понять… Они оба такие… Подвижники, постники, духом горящие! Какие лица! Я смотрел в их лица… Нет, я не мог понять: почему?!
– Почему они поссорились? – спросила полулежавшая в низком, задрапированном пурпурным шелком кресле Прокопия, лениво потягиваясь. – Власть, дорогой мой! Самолюбие… Ты же знаешь, Феодор должен был стать патриархом, но не вышло, – вот он и хочет теперь заставить Никифора плясать под свою свирель, доказать, что есть и на первосвященника управа похлеще кесаря!
– Ты судишь о других по себе. – Михаил поморщился. – Глупо это… Нет, Феодор не такой! Он стоит за церковный закон…
Да, игумен стоял за каноны – и отступать не собирался.
– Охотно отвечу, трижды августейший, – сказал он, быв спрошен императором о том, каковы условия, на которых он и его сторонники согласны войти в общение с патриархом. – Эконом Иосиф должен быть лишен сана, как и подобает за совершенное им беззаконие. Невинно осужденные должны быть оправданы. Как ты понимаешь, государь, для этого нужен собор, который пересмотрит дело заново – по справедливости и законно.
Игумен обращался к императору, но на самом деле слова его были адресованы патриарху, сидевшему на золоченом кресле на возвышении рядом с Михаилом.
– Святейший, как ты смотришь на это? – спросил император.
Никифор немного помолчал; выражение его лица было суровым.
– Я должен подумать.
14. Бремя тяжкое
Когда бы оба вы взялись за ум,
Я не желал бы ничего иного.
(Софокл)
Патриарх сидел за письменным столом в своих покоях и поворачивал в пальцах костяное перо. Перед ним лежал лист пергамента, светлый, хорошей выделки, на котором было написано: «Всесвятейшему и блаженнейшему брату и сослужителю господину Льву, папе старейшего Рима, Никифор, Божиею милостью епископ Константинопольский, радоваться». Патриарх задумчиво смотрел перед собой, взгляд его был печален. Уже давно Никифор никому не мог поверить терзавшие его скорби и сомнения.
«Никто, никто, – думал он, – не знает, что это за иго несносное, что за бремя тяжкое возложено на меня! Феодор отстаивает каноны… Хорошо ему делать это так уверенно: у него в подчинении всего несколько сотен монахов, а не целая Церковь! Ему не надо думать о том, что скажет император, как посмотрит императрица, что подумают синклитики, как обернется то или иное слово… Нет, конечно, надо в какой-то мере, но чтó это по сравнению с тем, о чем вынужден думать я! И теперь он опять требует… Он всегда требовал! Интересно, что было бы, если б он стал патриархом вместо меня?.. Впрочем, что было бы с ним, неизвестно, а вот я избавился бы от многих зол! Господи, на какое служение призвал Ты меня, совсем к нему не способного! Видно, это наказание за мои грехи…»
Он обмакнул перо в чернила и написал: «Поистине велик и досточуден и всякой похвалы достоин тот верный и благоразумный раб, который описывается в притчах священных евангельских повествований. Поставленный от господина своего над имением его, он рассудительно управляет…» Да, если кто и мог понять скорбь его души, то разве что поставленный на столь же высокое служение! Папа может понять его и подать совет… Патриарх вздохнул свободнее, и мысль его тоже потекла легче; строчки быстро ложились на пергамент. «Я же оказываюсь не из тех, кто может так управлять и направлять, а из имеющих нужду в руководстве…»
«Если бы патриархом стал Феодор, справился бы он?» – опять подумалось Никифору. Халкитский игумен тогда, в сентябре, приехав в Город, не мог скрыть своего восхищения узником и даже спросил у патриарха, бывают ли святые раскольники… Да, Феодор сумел собрать и воспитать единодушное и мужественное братство: почти никто из его братий не уступил ни угрозам, ни уговорам, не поколебался в ссылках и притеснениях! У патриарха заныло внутри, когда он вспомнил о том, как старательно некоторые епископы и игумены взялись исполнять постановления собора, даже до крови преследуя противников. «Разве могу я сказать, что здесь нет моей вины? – с горечью подумал Никифор. – Разве не прав был Феодор, говоря, что мы действовали недостойно христиан?» Конечно, будь игумен на месте патриарха, он не уступил бы императору ни на йоту. но император, скорее всего, и не решился бы требовать у Студита того, что потребовал у Никифора – ведь Феодор не был бы обязан василевсу своим избранием…
«Но поскольку, по соизволению и по попущению Божию, я подклонил себя под иго Его и принял эту службу и обязанности вопреки своему желанию, даже некоторым образом по принуждению, то расскажу обстоятельства моей прежней жизни и до какого положения дошли они…»
Никифор отложил перо и закрыл глаза. Перед его мысленным взором потекли воспоминания. Родившись в Константинополе в начале царствования Константина Исаврийского, он был вынужден, еще не успев окончить школу, отправиться вместе с родителями в ссылку. После смерти отца девятнадцатилетний юноша побудил мать воротиться в столицу, которая всё время жизни в изгнании влекла его к себе неудержимо – блестящий Город, чье великолепие особенно ощущалось по сравнению с провинцией и где остались друзья детства и многочисленные родственники. По возвращении в Константинополь Никифор погрузился в светские науки, наверстывая упущенное за годы ссылки, упражнялся также в каллиграфии, показав большие способности, и вскоре, по ходатайству родных, был взят на службу писцом в императорскую канцелярию. Как очень многие тогда, он чтил иконы, но в то же время старался «не давать повода ищущим повода», памятуя судьбу отца: Никифору хотелось учиться и жить в столице.
После того как его дядя, протоасикрит Тарасий, под началом которого он служил, неожиданно для него самого и для его многочисленных друзей и учеников, прямо из мирского состояния был избран на патриарший престол, Никифор продолжал служить императорским секретарем. Его любили при дворе. Он отличался немногословием и ясностью мысли, умея излагать главное в кратких словах, и хотя довольно хорошо изучил риторику, витиеватостями в речи не злоупотреблял и вообще вел себя скромно. С воцарением Константина и Ирины иконопочитатели осмелели и стали открыто высказывать свои взгляды, и тогда Никифор стяжал известность, обратив довольно многих колеблющихся к православию. После восстановления иконопочитания на Никейском соборе его придворная служба продолжалась вполне безоблачно, пока не грянула смута, связанная со вторым браком императора Константина. Удаление августы Ирины от власти не особенно огорчило Никифора: взрослый сын-император хотел управлять самостоятельно, это было вполне естественно. При возникших сложностях из-за женитьбы василевса на Феодоте Никифор, хотя и не одобрял в душе этого деяния, решил дипломатично молчать и не брал открыто ничью сторону, всецело, впрочем, сочувствуя патриарху, которому пришлось нелегко…
Хотел ли император действительно восстановить иконоборчество в случае отказа признать его второй брак, как он в сердцах пригрозил Тарасию, или это было сказано просто в припадке гнева? Бог знает! Патриарх предпочел отнестись к обвенчавшему беззаконный брак Иосифу снисходительно, Никифор поддерживал позицию Тарасия. Но не так считали студиты… Они никогда не отличались излишней дипломатичностью! Как теперь, так и тогда, они требовали, не соглашались уступить, шли на лишения и ссылки… И в итоге добились того, что патриарх не только пошел на уступки, но и принес свои извинения, – впрочем, лишь после того, как император был свергнут с престола своею матерью.