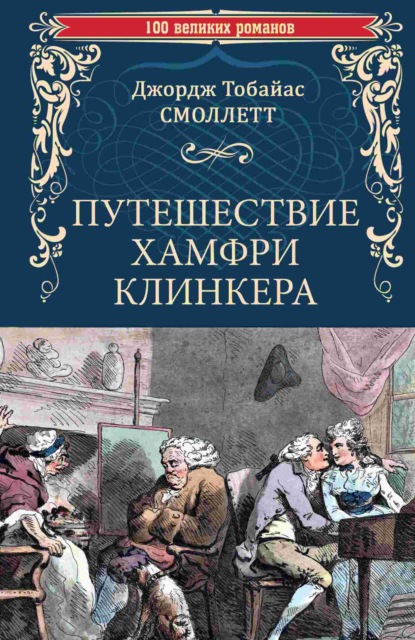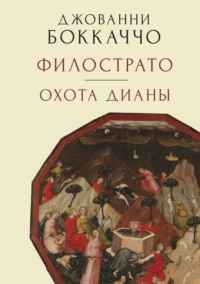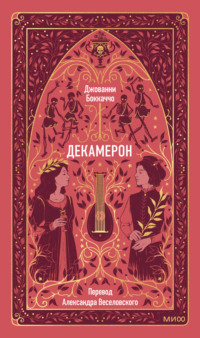Полная версия
Фьямметта
Слыша эти слова и опасаясь, как бы в наше отсутствие не вернулся мой дорогой возлюбленный, так что я могла бы его не увидеть, я долго медлила ответом, но потом, видя его желание и рассчитав, что, если тот приедет, я и оттуда узнаю об этом, отвечала, что готова исполнить его волю, и мы отправились.
О, насколько были противоположны моей скорби лекарства, которые предоставил мне мой супруг! Положим, там внимательно относятся к телесным недомоганиям, но если кто туда приехал в здравом разуме, то уедет без него, а не то что поправит расстроенный; близость ли к морю, месту рождения Венеры, время ли года, когда там обыкновенно собираются, то есть весна, располагающая к таким чувствам, но неудивительно, как мне неоднократно казалось, что там даже самые порядочные женщины, несколько забыв женскую стыдливость, вели себя в некоторых отношениях значительно свободнее, по-моему, чем где бы то ни было; не я одна так думаю, но почти все, даже привыкшие к местным нравам. Там большую часть дня проводят в праздности, а если занимаются, то рассуждениями о любви или одни женщины между собою, или с молодыми людьми; пища самая изысканная, благороднейшие старые вина, способные в каждом не только пробудить уснувшую Венеру, но умершую воскресить; а сколько свойств имеют различные купания, про то знает, кто их испытал; морской берег, прелестные сады, всегда всевозможные развлечения, новые игры, танцы, со всех сторон звучит музыка, молодые люди и дамы поют любовные песни. Попробуй кто в такой жизни противостоять Купидону, который, я думаю, с помощью всего этого в данном месте больше чем где бы то ни было распространяет свою власть.
И сюда-то, о жалостливые госпожи, мой супруг вздумал меня везти, чтобы исцелить от любовной лихорадки; как только мы туда приехали, не замедлил Амур на меня, как и на всех, простереть свою власть; и как не мог взять уже взятое сердце, то стал согревать его, и, усталое от долгой разлуки с Панфило, от слез и скорбей, оно вдруг разгорелось таким пламенем, каким, казалось, никогда еще не пылало. Не только вышеперечисленные причины тут действовали, но, без сомнения, любовь мою и печаль усиливало воспоминание о тех разах, когда я бывала здесь с Панфило, которого теперь не видела. Не было ни горы, ни долины, где бы прежде я с ним и с другими не бывала, то расставляя сети и капканы зверям, то с собаками охотясь на них, вынимая их из сетей; не было ни островка, ни утеса, который бы мне не говорил: здесь я была с Панфило, там он мне то-то сказал, тут то-то делали. Так же ни на что другое я не могла взглянуть без того, чтобы, во-первых, не вспомнить о нем, во-вторых, не пожелать увидеть его здесь или в другом месте или вернуть вчерашний день.
По желанию супруга я начала принимать участие в различных увеселениях. Иногда, поднявшись до рассвета, мы садились на лошадей и то с собаками, то с соколами, то и с теми и с другими отправлялись в окрестности, богатые дичью, то тенистым лесом, то открытым полем; вид обильной дичи всех радовал, только меня несколько печалил. И, видя прекрасный полет или замечательный бег, я шептала: «О Панфило, если бы ты был здесь, как прежде!» Увы, как часто, прежде без такой скуки принимая участие или любуясь, теперь при воспоминании, как бы побежденная скорбью, я все бросала. Сколько раз, помню, при этой мысли лук и стрелы падали у меня из рук. Ни одна из спутниц Дианы не могла искуснее меня управлять луком, расставлять сети и выпускать свору. И не раз, не два, а очень часто, охотясь с какой-нибудь подходящей птицей, я будто вне себя не выпускала ее, так что она сама уже слетала с моей руки, на что я, прежде весьма заботливая об этом, как бы не обращала внимания. Объездив все горы, долы и равнины, с обильной добычей я и мои спутники возвращались домой, где обыкновенно находили уже веселье и разные развлечения.
Иногда же, расположившись над морем у высоких скал, выбрав тенистое место, мы ставили на песок столы и большой компанией из дам и молодых людей там закусывали; вставши из-за столов, под музыку молодые люди затевали разные танцы, в которых и я иногда против воли принимала участие; но у меня не было особенного настроения, да и я была слишком слаба, чтобы танцевать долго, отчего я скоро уходила к разостланным коврам, где сидели некоторые из компании, говоря про себя: «Где-то теперь Панфило?» Иногда, слушая музыку, нежные звуки которой входили в мою душу, полную мыслей о Панфило, я забывала праздник и тоску, потому что милые звуки будили заснувшие во мне любовные чувства и приводили на память счастливые дни, когда я в присутствии моего Панфило имела обыкновение играть не без искусства на разных инструментах; но, не видя здесь Панфило, готова я бывала разрыдаться, если бы это не было непристойно. Такое же действие оказывали на меня и песни, которых там немало пелось; если какая-нибудь напоминала мне горе, я слушала ее со всем вниманием, чтоб выучить и потом при чужих людях иметь возможность вылить свою тоску более открытым способом, особенно ту часть горя, которая совпадала бы с содержанием песни.
Когда же танцы, много раз повторенные, утомляли молодых женщин, эти последние присаживались к нам, а молодые люди, толпясь около нас, образовывали как бы венок; и никогда я не могла этого видеть без того, чтобы не вспомнить, как я первый раз увидела Панфило, позади других стоявшего, и часто я поднимала на них глаза, будто снова надеясь увидеть меж ними Панфило. Смотря на них, я замечала, как некоторые пристально взирают на предмет своего желания, и, будучи опытна в этом, наблюдала, кто любит, кто смеется, хвалила то того, то другого, часто думая, что мой здесь был бы краше всех, если б я поступала как они, была бы свободна душою, как они свободны, только в шутку любя. Затем, осуждая себя за такие мысли, говорила: «Я более довольна (если можно быть довольной в несчастье), сохраняя верность». Снова обращая глаза свои и мысли к поведению влюбленных юношей, как бы почерпая некоторое утешение в тех, которых примечала более пламенно влюбленными, хвалила их про себя и, долго наблюдая, так молча начинала думать: «Счастливы вы, не лишенные лицезрения любимых, как я этого лишена! Увы, как часто прежде я поступала как и вы! Пусть больше продлится ваше благополучие, чтобы я одна могла являть миру образец несчастья. Но если любовь (делая меня недовольною моим возлюбленным) сократит мои дни, пусть будет мне вечной печальная слава Дидоны».
Подумав так, я молча принималась наблюдать различные поступки разных влюбленных. Скольких я видела, которые, все осмотрев и не найдя своей дамы, меланхолично удалялись, ни во что почитая праздник; тогда в своей скорби для них я находила слабую улыбку, видя в них товарищей по несчастью и научившись узнавать страдания других по своим.
Так-то настраивали меня, дражайшие дамы, изысканные купания, утомительные охоты и развлечения на морском берегу; мой супруг и доктора, видя мою бледность, постоянные вздохи, сон и аппетит невозвращающимися, сочли мой недуг неисцелимым, и, почти отчаявшись в моей жизни, мы вернулись в оставленный город, где наступившее время праздников готовило мне причины новых мук. Случалось неоднократно, что меня приглашали на свадьбы родственники, друзья или соседи, часто муж меня принуждал идти на них, думая этим рассеять мою очевидную меланхолию. Нужно было опять вынимать оставленные уборы и причесывать волосы, бывало всеми сравниваемые с золотом, теперь же более походившие на пепел. И, живо вспоминая, что они ему больше всего во мне нравились, новой печалью волновалось мое взволнованное сердце; иногда, помню, я так забывалась, что служанки, будто из сна меня вызывая, возвращали к покинутому занятию, подымая уроненный гребень. Желая по обычаю молодых женщин посмотреть в зеркало надетые уборы и видя в нем себя ужасною, но помня, какой я была, я думала, что в зеркале не я, а какая-нибудь адская фурия, озиралась я вокруг в сомнении. Но раз я бывала одета (соответственно состоянию моего духа), я шла с другими на веселые празднества, веселые, говорю, для других, потому что я знала, как человек, от которого нет ничего скрытного, что с отъездом Панфило все может доставлять мне только печаль.
Прибыв на место, предназначенное для свадьбы, хотя разные в разных местах происходили, я всегда была одна и та же, то есть с притворным весельем на лице и с печалью в сердце, так что, что бы ни случилось грустного или радостного, от всего моя тоска только увеличивалась.
Когда меня с почетом принимали, я озиралась пытливо, не для того чтобы видеть роскошные убранства, но обманывая самое себя, что, может быть, увижу я Панфило, как в первый раз увидела его в подобном же месте; не видя его, уверившись в том, в чем была и без того вполне уверена, как бы побежденная, садилась я с другими, отвергая знаки почтения, так как не видела того, ради кого они мне были дороги. Когда бракосочетание бывало совершено и гости вставали из-за пиршественного стола и то под звуки пения, то под инструментальную музыку начинались разные танцы и весь свадебный покой звучал, я, чтобы не показаться гордой, из любезности несколько раз приняв участие в танцах, снова садилась, предаваться новым думам.
Мне приходило на память, как торжественно было подобное этому празднество в мою честь, когда я, свободная, в простоте, беспечально смотрела на свое прославление; и, сравнивая то время с теперешним, видя, как разнятся они друг от друга, я испытывала сильное желание расплакаться, если бы это не было здесь неуместным. Во мне пробегали быстрые мысли при виде веселящихся дам и кавалеров, что прежде в подобных случаях я искусно веселила Панфило, – и больше меня томило, что нет причины мне радоваться, чем само веселье. Поэтому, прислушиваясь к любовным разговорам, музыке и пению, вспоминая прошедшее, я вздыхала с притворным удовольствием, ждала окончания праздника, недовольная и усталая, предоставленная самой себе. Но часто, смотря на толпу дам и молодых людей, я замечала, что многие, если не все, смотрят на меня и тихонько между собою говорят про мою внешность; но большая часть их шепота доходила до моих ушей, то потому, что я слышала, то потому, что догадывалась. Одни говорили: «Посмотри на эту молодую женщину! Прежде никто в нашем городе не превосходил ее красотою, а теперь какою она стала! Не находишь ли ты ее вид растерянным, какие бы ни были причины этого?»
Сказав это, смотрели на меня с сожалением, будто сострадая моему горю, и проходили, оставляя меня более обычного расстроенною. Другие спрашивали друг у друга: «Что? Эта дама нездорова?» – и отвечали: «Кажется, что да: она сделалась такой худой и бледной; какая жалость, прежде она была красавицей». Некоторые, более точно зная мою болезнь, говорили: «Бледностью этой госпожи выдается ее влюбленность, – какая болезнь сушит так, как пламенная любовь? Конечно, она влюблена, и жесток тот, кто причиняет ей такую тоску, что так ее иссушила».
В таких случаях, признаюсь, я не могла удерживаться от вздохов, видя гораздо большее сострадание в других, нежели в том, кто, естественно, должен был бы его иметь; и смиренно про себя молилась за них Богу. Мне помнится, что мое благородство имело такое значение для говоривших, что многие меня оправдывали такими словами: «Не дай бог, чтобы так думали об этой госпоже, то есть что любовь ее томит; она честна более других, ничего подобного за ней не замечалось, никогда в кругу влюбленных не было ничего слышно о ее любви, а страсть не скроешь так долго».
«Увы! – думала я про себя. – Как они ошибаются, не считая меня влюбленною только потому, что, как дура, не выставляю ее напоказ, как делают другие!»
Часто приходили туда знатные, красивые и нарядные молодые люди, прежде всячески добивавшиеся моего взгляда, чтобы привлечь меня к их желанию. Посмотрев на меня немного и видя такой обезображенной, может быть довольные, что я не отвечала им на любовь, удалялись со словами: «Пропала ее красота!»
Зачем я скрою от вас, женщины, то, что не только мне, но вообще никому неприятно слышать? Признаюсь, что, хотя Панфило, ради которого главным образом я дорожила своею красотой, здесь не было, однако не без укола в сердце я слышала, что она пропала. Еще мне случалось на таких праздниках сидеть в кругу женщин, ведущих любовные беседы; и, жадно прислушиваясь к рассказам о любви других, легко я поняла, что не было столь пламенной, столь скрытной, столь горестной, как моя; а более счастливых и менее почетных – большое количество. Так, то слушая и наблюдая, что делалось, задумчивой я пребывала среди вольного времяпрепровождения.
Когда через некоторое время, отдохнувши, сидевшие дамы поднимались, чтоб танцевать, иногда приглашая меня вместе с собою, они и молодые люди всей душой отдавались этому занятию, не имея в голове других мыслей, побуждаемые к танцам или пламенной Венерой, или желая показать свое искусство, а я почти одна оставалась сидеть, презрительно смотря на внешность и манеры дам. Случалось, конечно, что я их осуждала, желая страстно последовать их примеру, если бы это было возможно, если бы Панфило мой находился здесь, и всякий раз, как он приходил мне на память, печаль моя умножалась; видит Бог, он не заслуживал такой любви, какою я его любила и люблю.
Но, долгое время со скукой смотря на танцы, от посторонних мыслей сделавшиеся мне ненавистными, будто чем обеспокоясь, я удалялась от общества и под каким-либо предлогом уходила в уединенные места, желая подавить свою печаль; и там, дав волю искренним слезам, вознаграждала свои глаза за суетное зрелище. Слезы текли с гневными словами, и, сознавая свою несчастную судьбу, так, помнится, я к ней обращалась:
«О Судьба, враг страшный всех счастливых, несчастным единственная надежда! Ты пременяешь царства и видишь дела земные, возносишь и низводишь своей десницей, как тебя учит твой бесстыдный суд; всецело никому не хочешь ты принадлежать, то здесь возвеличишь, то там подавишь и после счастья новые заботы даешь душе, чтоб смертные, пребывая в постоянной нужде, как им кажется, всегда тебе молились и поклонялись слепому божеству. Незрячая, глухая, ты отвергаешь мольбы несчастных, со взысканными радуешься, смеясь и льстя, их крепко обнимаешь, пока они нежданным случаем не бывают тобою низвергнуты, тогда в несчастье познают, что ты отвернула от них свое лицо. В числе таких несчастных нахожусь и я, – не знаю, что сделала я против тебя, чтоб побудить тебя так меня преследовать. О, кто доверяет великим подвигам и имеет высшую власть и господство, взгляните на меня: из знатной женщины я сделалась ничтожнейшей рабою и хуже чем презренной и отверженною Богом. Если здраво посмотреть, нет более поучительного примера твоей изменчивости, о судьба! Ветреная Судьба, ты приняла меня в мир, осыпала благами, если, как я думаю, благородное происхождение и богатства суть блага; кроме того, я возросла в них, и никогда своей руки ты не отнимала. Всегда в избытке этими благами я обладала и сообразно женской природе и сознанию их бренности щедро ими пользовалась.
Но я влюбилась, еще не зная тебя подательницей людских страстей, не предполагая, что ты такую власть в любви имеешь; я полюбила юношу, которого не кто иной, как ты, послала мне тогда, когда в мыслях у меня не было влюбиться. Когда ты увидела, что неразрешимо сердце мне связала эта радость, ты, непостоянная, стремилась часто мне ее испортить, подстрекая пустыми обманами то наши души, то глаза выдать нашу любовь и тем ей повредить. Не раз по твоему желанию до моих ушей доходили бранные речи возлюбленного, а до его слуха мои такие же; ты думала этим возбудить ненависть, но в этом ты не достигла своей цели, так как хоть ты и богиня, и руководишь внешними событиями, но душевные добродетели тебе не подвластны, наше чувство всегда здесь тебя побеждало. Но что за прибыль сопротивляться тебе? У тебя тысяча путей нанести вред своим врагам и, где ты не можешь сделать этого прямым путем, ты можешь этого достигнуть окольным. Не будучи в состоянии породить между нас ненависть, ты ухитрилась сделать равнозначащее ей и, сверх того, скорбь и горе.
Твои козни, отраженные нашим чувством, нашли себе другую дорогу, и, равно враждебная ко мне и к нему, ты нашла случай разделить далеким расстоянием меня с моим милым. О, как я могла подумать, что с твоею помощью в местности, отдаленной от этой столькими горами, долинами, реками, морем, может возникнуть причина моих бедствий? Конечно, никак этого нельзя было подумать; но, хотя это так, и разделенный со мною, не сомневаюсь, он меня любит как я его, а я его люблю больше всего на свете. Но последствия неизменны, любим ли мы друг друга или ненавидим, и наше чувство ничего не значит перед твоим гонением. С ним вместе ты меня лишила всей радости, счастья и удовольствия, а также нарядов, праздников, убранства, веселого житья, оставила взамен печаль, жалобы и невыносимую тоску; но, если б я его не любила, ты бы не в силах была сделать эту перемену.
Если я в детстве провинилась перед тобою, ты могла бы меня простить за молодостью лет, но, если теперь ты хочешь мстить мне, зачем не касаешься только подвластных тебе областей? В чужой ты хлеб со своей косою забралась! Что общего у тебя с любовными делами? От тебя я получила высокие, прекрасные дома, обширные поля, скот и сокровища, – почему не на эти предметы ты распростерла гнев свой, предав их огню, потопу, мору и хищению? Все это, откуда утешение ко мне прийти не может, ты мне оставила, как в басне Мидасу Вакхово благодеяние, а унесла с собой того, что был мне всего дороже.
А прокляты да будут любовные стрелы, что стремятся Фебу отмстить, а сами от тебя такое несправедливое поражение терпят. О, если бы тебя они поразили, как поразили меня, подумала бы ты, может быть, как обижать любовников! Но вот меня настигла ты и довела до того, что, богатая, благородная, могущественная, я стала несчастнейшей в своей земле, – ты сама ясно видишь. Все и празднуют и веселятся, одна я плачу; не сегодня это началось, но так давно, что твой гнев должен был бы уже смягчиться. Но все тебе прощу, если ты, милостивая, как прежде разлучила меня с Панфило, теперь опять с ним соединишь; а если твой гнев еще продолжается, излей его на мое имущество. Жестокая, сжалься надо мною; смотри, я до того дошла, что стала притчей во языцех там, где прежде славили мою красу. Начни быть жалостной ко мне, чтобы я, обрадованная, что могу тебя хвалить, нежными словами прославила твою божественность; если ты кротко исполнишь мою просьбу, я обещаю (боги свидетели), я сделаю в твою честь изображение, украшу его как только могу и пожертвую в какой тебе любо храм. И все увидят подпись, гласящую: «Это Фьямметта, из пучины бедствий Судьбою вознесенная на вершину блаженства».
Сколько еще я говорила, но долго и скучно было бы все рассказывать, но все слова быстро прерывались рыданиями; случалось, что женщины, услышав мои стенания, приходили и, подняв с утешениями, вели против воли снова к танцам.
Кто бы поверил, влюбленные дамы, что в груди молодой женщины так сильно может укорениться печаль, которую ничто не только не может развеять, но, наоборот, еще более все укрепляет? Разумеется, всем это покажется невероятным, кроме тех, кто по опыту знает, как это верно. Часто случалось, в самую жару (какая стояла соответственно времени года) многие дамы и я, чтобы легче переносить зной, на легкой лодке с многими веслами рассекали морские волны с пением и музыкой и искали далеких скал или пещер, где было прохладно от тени и ветра. Увы, телесный жар они легко мне облегчали, но жар души – нисколько, и даже увеличивали, ибо, когда прекращался внешний зной, к которому, конечно, чувствительны нежные тела, тотчас открывался больший доступ любовным мыслям, которые, если хорошенько рассмотреть, без сомнения, служат не только для поддержания Венериного пламени, но и к его усилению.
Достигнув цели нашей прогулки и выбрав самые удобные места для наших желаний, мы видели компании дам и молодых людей здесь, там, так что все – малейшая скала, малейший уголок берега, защищенный тенью горы от солнечных лучей, – было наполнено нами. Какая радость для душ, не пораженных печалью! Во многих местах виднелись разостланные белоснежные скатерти, так хорошо уставленные, что один вид их возбуждал аппетит у тех, кто его лишен; в других местах уже виднелись весело завтракающие компании, которые радостными криками приглашали проходивших мимо принять участие в их веселье.
Напировавшись, как и другие, потанцевав по обыкновению после обеда, мы снова садились на лодки и катались, иногда встречая зрелище, приятнейшее молодым взорам, а именно: прелестные девушки, в одних легких шелковых сорочках, босые, с голыми руками, отдирали раковины от твердых камней и при этом, наклоняясь, выказывали сокрытую дотоле прелесть роскошных своих грудей; иные рыбачили сетями, а то другим каким приспособлением. Что пользы пересказывать все тамошние развлечения? Все равно не передашь. Пусть представит себе сам их сообразительный человек, не будучи там, а если и будучи, то видя кругом только молодость и веселье. Там души делаются свободными и открытыми и едва могут отказывать в какой бы то ни было просьбе. Признаюсь, чтоб не расстраивать компанию, я там притворялась веселой, не забывая о своем горе; если кто испытал подобное положение, может засвидетельствовать, как тягостно это делать. И как могла бы я от души радоваться, вспоминая, что в подобных развлечениях видела я Панфило со мной ли, без меня ли, а теперь чувствовала его крайне далеким и не надеялась на его возврат? Даже если б у меня не было других забот, разве одной этой не достаточно было бы? И как я могла не думать об этом, раз пламенное желание снова его увидеть до такой степени лишало меня рассуждения, что, зная наверное, что его здесь нет, я думала, что, может быть, он здесь, и, как будто это было несомненно, все смотрела, не увижу ли его где. Не было ни одной лодки (из тех, что шныряли туда и сюда, так что поверхность моря казалась небом, чистым и ясным, усеянным звездами), на которую я бы, обернувшись, пристально не смотрела. Ни одного звука инструментов (на которых, я знала, он умел играть) я не пропускала мимо ушей без того, чтобы не прислушиваться, кто играет: не тот ли, воображая, может быть, кого искала я. Не пропускала ни одного места на берегу, ни одной скалы, ни пещеры, ни одной компании. Признаюсь, эта надежда, то пустая, то притворная, многие вздохи во мне порождала; когда же она улетала, они копились в моем мозгу, искали выхода и изливались потоком слез из скорбных глаз моих; так-то притворная радость в тоску непритворную обращалась.
Наш город, более обильный увеселениями, нежели другие итальянские города, не только развлекает своих граждан то свадьбами, то купаниями, то морскими берегами, но веселит их еще разнообразными играми; но блестящее всего предоставляются частые состязания в оружии. У нас старинный обычай: когда пройдет зимнее ненастье и весна снова заблистает цветами и свежей травой, побуждая юношеские сердца более чем всегда выказать свои желания, сзывать по большим праздникам благородных дам в рыцарские ложи, куда они собираются, украшенные драгоценнейшими уборами. Не столь пышное и благородное зрелище было, когда снохи Приама[35] и другие фригийские женщины украшенные являлись на праздник, нежели вид нашего города, когда они собираются в театр (каждая украся себя насколько могла); несомненно, каждому приезжему человеку покажется при виде их высокомерных манер, замечательных нарядов, почти царских уборов, что это не современные женщины, но древние вернулись к жизни; ту по величию сочтет Семирамидой, другую по убору Клеопатрой, третью по прелести Еленой, другую, наконец, кто бы не принял за Дидону.
К чему сравнения? Вы сами по себе скорее богини, чем земные жены. И я, несчастная, когда Панфило еще не был потерян, часто слышала, как молодые люди меня сравнивали то с девой Поликсеной, то с Кипрейской Венерой, причем одни утверждали, что я подобна богине, другие говорили, что не похожа я на смертную женщину. Там в таком многочисленном и благородном обществе не сидят долго, не молчат, не шепчутся, но, меж тем как старые люди смотрят, милые юноши, взявши дам за нежные руки, танцуя, громкими голосами поют про свою любовь и таким образом весело проводят жаркую часть дня; когда же солнце смягчит лучи, приходят почетные лица нашего Авзонийского королевства[36] в подобающих их положению одеждах; полюбовавшись некоторое время на красоту дам и на танцы, по данному приказу они удаляются почти со всеми молодыми людьми, господами и слугами и через короткий промежуток снова являются большим обществом совсем в другом наряде.
Где найти достаточно блестящее красноречие, достаточно богатый язык, чтобы точно описать благородство и разнообразие одежд? Не мог этого сделать ни греческий Гомер, ни латинский Вергилий, описавшие в стихах столько битв греческих, троянских и италийских! Попытаюсь отчасти рассказать, чтобы дать хоть слабое понятие тем, кто этого сам не видел, и кстати будет это описание: тогда скорее поймется вся глубина моей печали, равной которой не испытывали женщины ни прежде, ни теперь, когда узнают, что даже все великолепие подобных развлечений не смогло ее прервать. Возвращаясь к рассказу, скажу, что наши почетные лица выезжали на конях быстрейших не только всех остальных животных, но даже ветра, который они обогнали бы в беге; молодость, красота, очевидно, достоинства их делали несказанно приятными на взгляд. Они были одеты в пурпур и в индийские ткани, пестро затканные вперемежку с золотом, жемчугом и драгоценными камнями; лошади же были в чепраках; белокурые кудри, локонами спадавшие на белоснежные плечи, сдерживались тонкими золотыми обручами или венками из свежей зелени; на левой руке легкий щит, в правой – копье; и при звуках многочисленных труб один близ другого, с большой свитой, в таком убранстве они начинали перед дамами свои игры, где главная заслуга заключалась в том, чтобы проскакать верхом не двигаясь телом, закрывшись щитом и опустив копье концом как можно ближе к земле.