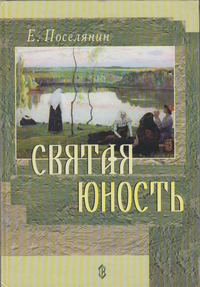Полная версия
Душа перед Богом
И когда прошло 33 года и совершался ужас Голгофы и, по преданию, этот самый юноша, распятый по правую сторону от Христа, слышал поношения другого разбойника, – что-то раскрылось в его душе. Встало лучшее воспоминание его жизни, и он увидел вновь перед собою Египет, темную ночь и двух путников с Младенцем, небесную красоту, освещенную факелами. Он вспомнил тогда тихий голос: «Этот Младенец воздаст тебе добром»; узнал в распятом «Царе иудейском» когда-то виденного им Младенца, а в женщине, которая, как немая скорбь, стояла у Креста, – Его Мать. Тогда он воскликнул слова, обессмертившие и возвеличившие его навсегда: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»
Путники шли в глубь Египта, и, как говорят древние сказания, таинственная страна умножала для них чудеса свои. У границы города Иермополя стояло великолепное старое дерево, почитаемое там за бога. При приближении Богоматери с Младенцем дерево заколебалось, бежал живший там бес, а дерево склонило свои ветви до земли, образуя кущу для приюта путников; и когда чудные путники пошли дальше, проведя там ночь, дерево получило целебную силу. Когда Богоматерь с Младенцем входила в храмы, идолы падали со своих мест, а в селении Натарея (вероятно, к северо-востоку от Каира) забил ключ живой воды, чтобы утолить жажду святых путников.
Мы спим…
Мир спал…
Над миром расстилалась темная холодная ночь. И разве редкий, совсем уже выкинутый из жизни человек не спал, приютившись где-нибудь, в теплых странах – под деревьями, а на холодном севере, заваленный снегом, коченел близкий к смерти в сугробах. Жизнь ушла в дома, притаилась и спала.
Спал роскошный Рим с его дворцами, великолепными садами и площадями, обставленными надиво изваянными статуями богов всего мира. Спала порабощенная Греция, эта сладкая, мечтательная улыбка благоухающого юга… Спали знаменитые, шумные, грешные города Средиземного побережья.
Тихо было везде: и в домах, и на дорогах, в гаванях, у берегов, в рощах, храмах, театрах и на площадях. Только в редких, редких местах теплились огни. Люди, которым мало дня для своих удовольствий, урывали время у ночи для попоек и наслаждений. А прочее всё спало. От лесной птицы, свернувшейся на ветке, от скота в поле до младенца в колыбели, до мудреца, задремавшего над длинными хартиями человеческой мысли.
Спал и Иерусалим со своим великолепным Храмом, со своими домами с плоскими кровлями, с шумной, беспокойной толпой, с грешным дворцом Понтийского игемона, с красивыми, разбросанными вокруг города холмами и садами.
Спал и Вифлеем, маленький город, родина царя-псалмопевца, неизвестный тогда, быть может, никому, кроме иудеев.
Мир спал спокойно, утомясь от своих мирских дел и забот, чтобы наутро приняться за ту же работу, забыв, забыв всем существом своим, что есть высшее призвание на земле, кроме богатства, удовольствия и почестей.
И в эту сонную ночь совершилось величайшее из чудес: Бог в образе человеческом родился на земле, в городке Вифлееме.
О приходе чудного Младенца в мир знали несколько пастухов вифлеемских, к которым спустились Ангелы, чтобы пропеть им песнь о родившемся Боге. Знали еще мудрецы, которых таинственная звезда, пророча о сошествии на землю Бога, влекла в Вифлеем.
А мир спал….
О великая тайна этой святочной ночи! Как громко огласилось потом всему миру всё то, что совершилось здесь так тихо и невидно! Как торжественно и убежденно исповедывали потом люди этого родившегося в ту ночь в Вифлееме Младенца!
Но изменилась много от этого жизнь?..
Мир спал. Мир был так мало готов к принятию благовестия о рождении Бога, сердца были так холодны к исканию истины, что через пространство, без всякого посвящения, никто не чувствовал пришествия в мир Христа. Знали об этом лишь три волхва да пастухи Вифлеема. Да и те знали не потому, что их очищенное от зла сердце было в них так чутко, что могло ощутить пришедшего на землю Бога, но потому, что одни «видели звезду на востоке», другие – приняли извещение от Ангелов.
Спал мир, когда пастухи поклонились в вертепе родившемуся Христу, когда дальние цари Востока, припав к Его ногам, открыли принесенные ими дары… Спал мир, когда жестокий Ирод избивал младенцев, чтобы загубить жизнь новорожденного Христа, и когда на ослике, ведомом под уздцы Обручником Иосифом, Пречистая Дева с Младенцем на руках спасалась в Египет.
Христос рос в Назарете в бедной обстановке, «исполняясь премудрости». Он уже обратил в Иерусалимском Храме на Себя внимание, когда пришел с родными на праздник и изумил сверхъестественной мудростью книжников и фарисеев. Год шел за годом. Всё приближался Христос ко времени выступления Своего с проповедью миру. А мир спал, не чувствуя, какой чудный новый Человек освящает теперь Собой человечество.
И вот Христос явился народу. Он принял в Иордане крещение от руки Иоанновой, и Дух Святый нисходил на Него в виде голубя, и глас Отца с неба гремел, свидетельствуя о Нем…
А мир всё спал.
И дело началось… Христос стал ходить по городам Иудеи и Галилеи, благовествуя. Он собрал Себе ближайших учеников и послал 70 апостолов проповедовать Царствие Божие. Потоками льются от Него чудеса: мертвые встают, прокаженные очищаются, расслабленные ходят, слепые прозревают. Небесная благодать сошла на землю, попирая смерть, исцеляя болезни, возрождая души…
А мир всё спит.
Грянуло новое слово, рушатся старые законы, любовь возвещена. Любовь безграничная, бесконечная, всеобъемлющая. Оправданы кающиеся грешники и вознесены над самодовольными фарисеями. Открыто рукою Христа великое, неотразимое, захватывающее царство духа.
А мир спит.
И вот Христос предан. Вокруг бушует злоба людская.
Он стоит, бичеванный, без одежды, венчанный тернием. Понтий Пилат предлагает отпустить Его, даруя жизнь Его народу, по случаю праздника, а народ кричит: «Не Его, а Варавву!»
И вот Он уже висит, пригвожденный к Кресту. Мертвенная бледность овладевает божественным челом. Вздох, века пронизающий вопль страждущего Божества: «Отче, Отче, зачем Ты Меня оставил?» И вскоре другой: «В руце Твои предаю дух Мой»… И тело погребается Иосифом Аримафейским в саду в новом гробу, и стража приставлена к нему. А мир всё спит в эту ночь несказанного величия и несказанного ужаса, вместо того, чтобы подняться, как один человек, и встать на стражу у спящего в гробе Бога.
И Он воскрес. Он является ученикам то среди волн моря, то в запертой храмине, то по дороге в Эммаус. А мир спит, как прежде…
И Он вознесся на небо. И послал Духа на апостолов, «да научат вся языцы». И вот они разошлись по миру, произнеся всюду новое слово, подтверждая его несказанными знамениями… Страдали на аренах мученики, слабые женщины и девы силою своей утомляли жесточайших палачей. Над миром насилий и безумия неслось одно страстное исповедание: «Я христианин!», «Я христианка!»
А мир всё спал.
И победило в сердце избранных людей, лучших представителей человечества, дело Христа. Высоко вознес над миром Крест равноапостольный Константин, и засияло Православие в своей кроткой, мирной победе. Но мир всё спал…
Шли Соборы, вырабатывался незыблемый Символ веры; люди духа, отцы церкви, подвижники дивной силы, как звезды, всходили над жизнью церковною, горели, сияли, светили и закатывались. Христианские женщины показывали лучезарную красоту своей души, оставляя знатность, богатство и родных, чтобы, как Ксения, спасаться в дальних пустынях. Богатейшие Олимпиады, Мелании, Павлы вселенную напалняли неистощимыми струями своих благодеяний. Засияла в мире благодать в невидимых дотоле образах…
А мир всё спал.
И вот теперь, когда мысль о новом годе невольно возбуждает в нас желание какого-то обновления нашей жизни, мы должны спросить себя: принадлежим ли мы к тем немногим людям, которых коснулось духовное обновление, внесенное в мир Христом, или мы всё также безнадежно спим, все так же коснеем в нашей нравственной неподвижности, как весь мир спавший и спящий?
О Боже, Боже! В этот день обновляющегося года мы полны желания обновления и нашего собственного быта. Так разрушь же наше сердечное окаменение! Разрушь в уме нашем все те предрассудки, которые удерживают нас вдали от Тебя. Удержи хоть на короткое время наши пороки. Дай простор добрым в нас чувствам, чтобы благодарный человек вырос там, где стоит закоренелый язычник, только по имени называющийся христианином!
Буди, разбуди нас!
Прожги наше сердце огнем Твоих слов. Укрепи нашу немощную волю. Открой нам глаза. Дай нам, помоги нам, научи нас, чтобы не дальним и забытым казалось нам всё то, что Ты совершил на земле, чтобы вечно, навсегда в пробужденной, воспрянувшей душе нашей стояла тайна той ночи, когда Ты родился от Девы-Матери в тихом Вифлееме, чтобы ярким лучом горела в ней заветная звезда жизни, чтобы не угасал в нас святой образ Твой – Младенцем, Отроком чудным Сеятелем, благим Пастырем в Гефсимании, на Голгофе, в гробу, воскресшим, вознесшимся и одесную Отца седящим.
Мы спим. Мы гибнем от нашего сна. Бесплодною оказывается для нас Твоя несказанная жертва.
Пробуждай же нас! Пробуди!..
Умирает ли религия?
Недавно мне пришлось присутствовать при интересном споре между матерью и взрослым сыном. Оба они были люди серьезные и работающие. Она употребляла значительную часть своего состояния на приюты и помощь учащимся женщинам. Он занимался религиозными вопросами и кое-что в этой области сделал.
Когда сын, живший отдельно от матери и пришедший навестить ее, вышел проводить до передней одного гостя, хозяйка дома, женщина, которая некогда, судя по ее прежним портретам, находила вкус в роскошных туалетах, а теперь была одета со строгой спартанской простотой, сказала мне, очевидно, под влиянием бывшего до моего прихода спора:
– Как тяжело быть разных мнений с близкими людьми! Едва только сын, обдуманно и изысканно одетый, очевидно, собиравшийся на какой-нибудь концерт или вечер, вернулся в комнату, мать ему сказала:
– Мне прямо тяжело, Вася, видеть, как ты далеко отстал от жизни. Ведь это страшно жить позади своего времени. Как ты не чувствуешь, что ты совершенно одинок в своей отсталости? Ведь у тебя нет единомышленников. Ну, посмотри, кто тебе может сочувствовать, кроме отживших старичков и никому не нужных монахинь. Ведь ни один молодой ум не отзовется на твои мысли.
Я взглядывал в их лица. Предо мною была целая драма: мать, несмотря на коренное разногласие с сыном, очевидно, его любившая и желавшая привить ему свои взгляды, и сын, уважавший и бережно относившийся к своей матери, которая не хотела или не могла понять то, что всего дороже было его душе. Мать говорила горячо и страстно, сильно взволнованная, а сын слушал внимательно, спокойно сложив на столе свои руки, и только грусть отразилась на его лице, обыкновенно веселом и жизнерадостном.
– И потом, – продолжала мать, – ты прямо не хочешь видеть, как это даже неестественно. Ты ведь так непохож на общий тип ревнителей христианских. Ведь ты любишь жизнь, больше всех своих братьев любишь свет, не можешь жить без театра и музыки, пожираешь по нескольку новых французских романов в месяц: одним словом, тебя тянет к радостям жизни, – и вдруг ты интересуешься какими-нибудь юродивыми, столпниками или никому давно не нужными фиваидскими монахами, которых ты теперь изучаешь. И очень понятно, что некоторые тебя склонны считать ханжой.
– Ах, мама, – тихо произнес сын, – я давно перестал интересоваться тем, чем меня кто считает.
– Я лично этого не думаю, потому что твое христианство, в сущности, твоим выгодам, скорее, вредило, чем приносило пользу. Но человеку, полному жизни, как ты, право же, неестественно интересоваться таким отжившим учением.
– Мама!.. – прервал сын, с болью в голосе.
– Ах, я вовсе не хочу осуждать христианство. Я очень уважаю его за то, что оно сделало. Оно облагородило человека.
– Оно внесло, – медленно вставил сын, – самое светлое и животворное начало – любовь; оно дало людям свободу и уничтожило рабство.
– Вот в том-то и дело, что нет: Христос узаконил рабство.
– Где? Как? Когда? – спросил взволнованно сын.
– А этот ужасный текст: «Рабы, повинуйтесь господам!»
– Это вовсе не узаконение рабства, а совет той кротости, которую Христос заповедовал всем и каждому. Это был совет рабам среди существовавшего тогда рабства. Но это не было возвещаемое христианством положение: «Рабство – прекрасное учреждение и должно существовать впредь». Лица, не понимающие христианства, всегда делают так: выхватывают один текст, часто расходящийся с общим духом Евангелия, и закрывают глаза на всё остальное. А вот я тебе скажу – я знаю это наизусть потрясающее слово, которым христианство в лице апостола Иакова громит грустные явления общественной несправедливости: «Послушайте вы, богатые! плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь; вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа».
– Вот, как! Это очень хорошие слова. А все-таки христианство теперь отжило свой век. Человеческая мысль его переросла, всякому ведь явлению есть свое время. Вот, когда-то рыцарство было действительно высшим олицетворением красоты человеческого духа. А потом, после Дон Кихота, оно стало казаться странным и смешным…
– И тем не менее, – заметил сын, – когда мы хотим обозначить самое высшее благородство, мы говорим о человеке: «Это настоящий рыцарь». Но христианство не рыцарство; оно предвечно. Оно не есть идея, родившаяся в голове человека. Оно есть откровение, принесенное на землю людям их Творцом, и оно учит о том, что существовало ранее начала, что будет существовать после конца концов… Ты говоришь «отжило», а сама движешься среди жизни, которая украшена христианством, в которой всё, что есть светлого, ценного и прекраснаго, внесено христианством. Ведь какое ты ни возьми учение, все правильные его пункты – не его, а христианские. Разве, например, то, что есть истинного в социализме, не подсказано социализму христианством? И все те верные положения, которые есть в проповеди Толстого, относительно разных сторон жизни, не взяты ли они из христианства? Только оно одно осветило правильно всю жизнь, дало систему непререкаемых и незыблемых истин. Пока люди будут чувствовать и страдать, они будут протягивать ко Христу свои усталые руки. Я уже не говорю обо всех внешних изъянах жизни, обо всём, что происходит вследствие взаимного равнодушия людей друг к другу, несправедливого распределения богатств и других несовершенств общественного устройства. Представь себя на земле Эльдорадо, устрой общее внешнее благоденствие, и все-таки будут люди, глубоко страдающие острым жгучим страданием. Сколько и в таком Эльдорадо будет людей непонятых, не нашедших той любви, какой искали, какой были достойны! Сколько будет людей, которых запросы перерастут всё то, что может им предложить наша жизнь. И в этих душах ты ничем не задавишь их стремления ко Христу. И ничем не вытравишь запечатленный в них образ кроткого, зовущего их Сына Божьего, обещающего им насытить их у себя ненарушимым блаженством. Как странно говорить: «Солнце отжило свой век, люди не нуждаются в солнце», – так же странно говорить: «Христианство отжило, люди в нем больше не нуждаются».
– Кто знает, быть может, несмотря на скупость твоего хваленого солнца, лет через 100 человеческий ум найдет средство превратить полюс в благодатный юг с роскошной растительностью…
– Не очень желал бы я попасть в такой чахоточный юг.
– А я бы с наслаждением, и всякую бы минуту говорила себе: всё это сделано не случайной игрой природы, а усилием великого человеческого ума.
– Который, надо договорить, человек получил от Бога… Но знаешь что: ты в своем утверждении о бессилии религии очень отстала от жизни. У нас в России, вечно, в смысле идеи, живущей на задворках, сидящей где-то в лакейской, принято третировать религию. Если просмотришь ходовую русскую литературу, то удивишься, как усиленно избегались до самого последнего времени всякие религиозные вопросы. И на меня это производит такое впечатление, как если бы, описывая людей, брали исключительно лиц одноруких: религиозный инстинкт настолько свойствен человеку, что совершенно не касаться, описывая жизнь людей, этого инстинкта, прямо нелепо. На Западе это не так. Ты вот изумляешься, как я, при моей любви к жизни и к ее радостям, интересуюсь христианством. А вот, например, в Америке молодежь состоятельных классов на своих загородных увеселительных экскурсиях распевает на скалах какого-нибудь пустынного залива псалмы. И это вовсе не отвлеченные люди, готовящиеся стать пасторами. Это жизнерадостные, практичные, созданные для житейских побед истые дети предприимчивых янки. И в Америке, и по всей Европе действуют многочисленные «союзы христианской молодежи», которые имеют громадные капиталы, дома, оказывают нравственную поддержку неисчислимому множеству молодых людей, окруженных опасностями крупных центров, и все они объединены в мировой союз… И я не думаю, чтобы какая-нибудь образованная американка решилась, как ты, утверждать, что христианство отжило… Я скажу иначе: отжила и не имеет будущности та группа людей, которая думает обойтись без христианства.
– Посмотрим…
– Мы уже это видим!
По лицу молодого человека скользнула тень того недовольства, которое испытывает всякий собеседник, когда он видит, что весь пыл его убеждений не трогает чужую душу.
– Это мы, русские, – заговорил он, – так равнодушны к вере. Мы, на Руси святой. У нас человек образованный стыдится веры. Область веры у нас не находит места даже в литературе! Как будто можно написать полную картину жизни, ни слова не говоря о религии. Без любовных сцен у нас не встретишь ни одного романа. А вот о том, каковы религиозные убеждения героев, авторы не считают нужным и обмолвиться. Почему же иначе смотрят на дело писатели «безбожного» Запада? В одной французской литературе я постоянно натыкаюсь на глубоко затрагиваемые религиозные вопросы. У Буржэ: Le disciple и Un divorce – и этот милый тип старого француза, погрузившегося в Риме в христианские воспоминания в Cosmopolis. Какие проникновенные строки новоявленный обаятельный талант, скрывавшийся под псевдонимом Pierre de Coulevain, посвящает в этом дивном, над которым ахают в восторге все читающие, Sur la branche, будущей жизни и вообще мистическим основам жизни? А La maison du pêche известной модной писательницы, где дана такая поразительная, с первой до последней страницы, картина религиозной жизни молодого ревностного католика, который из-за аскетических своих убеждений разбивает счастье своей жизни и гибнет для земли! Автор не сочувствует, видимо, своему герою. Но с каким громадным знанием описана интимная внутренняя жизнь, и вот уж где эту сторону жизни он не обходит молчанием. А потрясающий роман Le plus Fort (Claude Ferval), где Христос побеждает в душе роковую страсть нескольких лет молодого богатого человека, одаренного всем, что нужно для счастья, и находящего, однако, счастье только у ног Христа, в иноческом отречении… Там, в Европе, стараются понять, проникнуть в душу верующих… А мы только глумимся над ней с высоты нашего невежества и нашей косности.
Молодой человек распрямился, говоря эти слова; но вдруг опомнился, остановился и тихим виноватым голосом сказал:
– Прости, я, может быть, резко выразился; но я не могу говорить об этом спокойно.
Мать молчала, видимо, задетая за живое.
– Да, – продолжал, помолчав, сын, – ты говоришь верно, что в большинстве современной молодежи почти нет веры. Я думаю хуже: мне кажется, что для многих священников Христос – не Христос одной гуманной доктрины, а истинный, евангельский Христос, живой Христос, страдавший на Кресте и искупивший нас Своею Кровью, – для многих священников такой Христос почти не существует… А для так называемых передовых людей и подавно… Я с грустью чувствую, что верующих становит все меньше и Церковь, начавшаяся с двенадцати рыбаков, кончится горстью простых, невидных людей, которые сохранят веру до второго прихода Христа… Ну, что ж! – сказал он тихо и задумчиво. – Что ж, что численный перенес будет не на их стороне. Лучше быть с ними, чем там, где и ум, и успех, и блеск, и власть, и знание, но всё без Бога. Разве много было последователей у Истины в часы ее величайшей нравственной победы?
Я смотрел на мать, которая слушала внимательно, с интересом, но, по-видимому, никак не собираясь ни в чем отступиться от своих утверждений.
– Но пока ведь этого, слава Богу, нет, – продолжал он помолчав. – Ты читала, что происходит во Франции по поводу описи церковных инвентарей.
– Да, много глупостей.
– Но эти глупости показывают, как дорожат люди храмом. И это не подонки нации. Это трудящееся, здоровое население и образованные, независимые люди. Они не полагают, как вот те, что христианство отжило. И их гнев есть лучшее доказательство их истинной любви к религии. Такая любовь вспыхивает, когда любимый предмет оскорбляют. Вот мы спорим с тобой, спорим, – сказал он, подымаясь, чтобы уходить. А весь курьез в том, что ты, милая мама, – христианка, хотя сама о том и не догадываешься. Ты живешь христианскими идеалами, христианскими взглядами, повинуешься христианской морали и ведешь христианскую жизнь, не подозревая, что ты христианка в душе. Вся драма заключается в чем? У тебя, вот, дела без веры, а у меня вера, да жизнь слабенькая.
– А ты отбрось веру, и, может быть, дела придут.
А теперь ты веришь, и на том успокаиваешься.
– Я вовсе не успокаиваюсь, – пробормотал про себя сын. Мы вышли вместе. Несмотря на шутки, закончившие его спор с матерью, он, видимо, был возбужден.
– Нам по дороге? – спросил он. – Вы не спешите? Пройдемте несколько пешком. Ничего, что я опоздаю на этот дурацкий концерт, – выбранил он почему-то концерт, о котором за час до того отзывался очень горячо. – Ходьба меня успокаивает… Господи, как тяжело, когда хорошие люди как-то насильственно заставляют себя не верить во Христа. Часто эти люди такой чудный материал для христианства. Моя мать, например… Вы не можете себе представить, как она во всем себя урезывает для бедных. Разве она так бы жила, если бы тратила на себя все свои доходы! Сколько трущоб она объедет, каких сцен насмотрится за день! И рядом я с моей эстетической жизнью и теоретическим христианством…
– Но ведь вы кое-что делаете?
– Вот это «кое-что» и ужасно. Нужно или всё, или ничего. Это честнее.
– То есть, это последовательнее. Но лучше кое-что, чем ничего.
– Нет… С каким восторгом я думаю о людях первых веков. Все эти Амвросии, Григорий Двоеслов, бывший раньше ослепительным щеголем, все эти знатные мученики, преподобный Арсений Великий, первый вельможа цареградского двора, Кирилл, просветитель славян, воспитывавшийся с императором Михаилом. Эти всё отдали, и сколько отдали! Какие великие, блистательные жертвы, сияющие сквозь темь веков. Вот матушка не понимает, почему я изучаю жизнь фиваидских отцов. А какая там духовная красота, какие победы духа!.. Знаете ли вы, например, что делал Макарий Египетский на верху своей духовной славы, гремевшей на весь мир? Он нанимался во время жатвы простым поденщиком. У этих людей была жажда одного права, которое нам непонятно, к которому мы равнодушны, а которое так велико, священно и доступно: право страдать со Христом. И к таким людям шли. Да, их слушали. И каждый их шаг, каждая черта их жизни – это суд, страшный суд над нами.
Найдите теперь такой закал. Найдите Иоанна Дамаскина, найдите Филарета Милостивого. И хотя я говорил матушке, что христианство еще крепко, но как часто во мне самом шевелится роковой вопрос: не умирает ли религия?..
Друг Христов
Сколько великих, драгоценных, неизъяснимых воспоминаний теснится в душе христианина при имени апостола Иоанна Богослова!
Этот человек изо всех родившихся на земле, после Пречистой Матери Божией, ближе всех был к Спасителю мира. Самый юный из тех, кого Христос избрал Своими учениками, он глубже других откликнулся Божественному сердцу Учителя и отдал ему без остатка весь пыл своей ранней молодости, все силы своей восторженной души, всю безграничную привязанность своего верного и сильного сердца. Казалось, нужна была эта именно святейшая пора юности, эта свежесть души, эта непочатость молодого существа, только что начавшего с удивлением и любовью открывать на мир свои ясные глаза, чтобы стать наиболее пригодной почвой для нового учения, для хранения и распространения в задыхающейся от злобы и нравственного холода вселенной, – нового слова всепрощения, примирения и любви.
Можно предположить, что Иоанн не раз встречался с Иисусом Христом, прежде чем Господь вышел на дело Своей проповеди. Это предположение тем более вероятно, что, по некоторым преданиям, мать Иоанна – Соломия – была сестрой Богоматери, а Иоанн, в таком случае, двоюродным братом Господа.