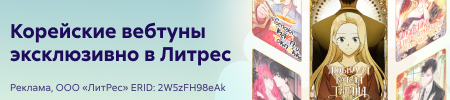Полная версия
Тельце

Игорь Шумов
Тельце
мама сына
Листья переливались в солнечном свете. От желтого к черному. За окном курили дети, по приколу прижигая друг другу ладони. Собачники вцепились в поводки, и непонятно, кто кого водил от забора к забору. Все более неактуально, как соль на раны, срывал ветер с билборда лицо кандидата. Несмотря на все это и вставшее шоссе, в квартире было достаточно тихо. Газ громко шипел, из-под кастрюли вырывались оранжевые огни. Опасный запах по комнате летал.
В ванной мама вытирала кожу сына. Аккуратно, будто бы малейшие резкое движение заставило бы кровь стекать на пол. Вода гремела и заглушала дурные мысли. Она не отрывала глаз от своего чада. «Мой сыночек драгоценный» – он стыдился ее слов. Покрывался на людях краской, пытался держать себя холодно и мужественно, как и любой подросток. Родители никогда не поймут своих детей – зачем они пытаются быть старше, ведь дальше будет только хуже. Врожденная в детей наивность похожа на глупость и заставляет старших улыбаться. И завидовать. Мама укутала сына в полотенце. Те годы, когда она могла спокойно взять его на руки, поднести к груди напиться, давно ушли в прошлое, и вернуться им не суждено. Сильна материнская любовь или упрямство: напрягая спину, она донесла его до спальни.
Вот он лежит голенький. Кожа покрылась красными парными складками. С мокрых патл стекали последние капли на постельное белье. Вот он, сын. Возмужалый, державший тайком в руках сигарету. Она нашла зажигалки у него в рюкзаке несколько месяцев назад и проклинала себя за это. Какой пример подала сыну! Отец курил, не стыдился, она его ругала. Потом привыкла от любви. Стоило самой попробовать – не оторваться. Стыдила себя за привычку, бросала, снова возвращалась, пачки прятала, бутылки бычками забивались, потом балкон разложением пах. А отчего все? Нервы не держались, тяжелые месяца печали и утрат прошли с матерью под руку. И все никак не отпускали. Каждую родинку сына она знала, каждый шрам на руках носил в голове дату. На щеках проявлялась первая щетина, но она не могла – никак не могла! – назвать его мужчиной. Ей стало не по себе. Как долго она смотрит на голого сына? А тот учтиво молчит, не перечит матери.
А помнишь, как ты скрывал, что мастурбируешь? Что ты удивляешься? Родители прекрасно об этом знают – мы стираем твои вещи, и сами подобное в твоем возрасте… практиковали. Знаки оставлял, да. Подушку у стены бросал – значит, лежал, дергал. Ночью шаги всегда слышно, да, и чем тише пытаешься, тем они становятся громче.
– А раньше всегда поднимал голос, стоило мне только на тебя посмотреть! Совсем разболелся, бедняжка. Мой любимый, сынок. Понимаю, жарко, потно. Знобит? Конечно знобит. Давай я тебя одену. И нечего краснеть. Ничего стыдного в этом нет. Я тебя вот таким, смотри, с мизинец помню, вынашивала тебя, а ты так смотришь! Бескультурный, совсем мать не любишь? Старая уже, а ребенка одеваю. И носки наденем. Потеть надо, чтобы вся зараза выходила из организма. Воды пей больше. Нет, не вставай, я сама принесу.
Вот, пей. Ах же ты, криво… У тебя дырка во рту что ли? Эх, ладно. Давай вытрем. Зато освежился. Дай я температуру померю. Да ты весь горишь? Какой ужас! Так, где градусник? Вот, засовывай подмышку. Так, держи крепко. Хорошо. Жди пока не запищит. Да, ты, наверное, не помнишь, но в детстве, ты как-то упал в обморок. Как очнулся – ходил с белым лицом несколько дней и отказывался рассказывать, что же ты видел. Мы-то, дураки, думали, ты притворялся и не хотел идти на самбо, строил из себя больного. Болел сильно. И очень не любил градусник. Держи крепко, кому говорю? А то температуру неверно покажет. Не могу поверить, что столько лет прошло.
Не могу смотреть на тебя в болезни. Мне сердце будто кушают мыши. Ты долго уже болеешь, и врачи нам не хотят помогать. Ничего, все наладится. Я вижу, тебе сегодня лучше. Был бы твой отец здесь… Да кого я обманываю, да? Не было бы его здесь, гулял бы еще где. Никто тебя как я не любит. Вот скажи мне, где эта девочка, как ее там… Маша, да. Ты болеешь, никакой, считай, при смерти, смотришь сам себе в глаза. Спроси себя – и где она? Какая она тебе после этого жена? Плохая, нелюбящая, я совсем молчу.
Давно, когда ты еще играл в компьютерные игры, было как… Я сидела тогда на кухне и что скрывать – курила, все ждала твоего отца, в окно смотрела. Ты подбегаешь ко мне с криками «Мама! Мама!». Больнее звука не знаю. Уже вижу, как ты порезался или сломал себе что-то, слезы быстрее мысли наворачиваются на глаза. Падаешь в колени и говоришь: «Как могут люди продавать наркотики детям? Как люди могут умирать?». И я плакала от радости, пока ты горевал, не верил, что такое существует; что люди наживаются на других, делают им больно, кормятся их бедами. Мы плакали вместе, чаще, чем любой матери хотелось бы. Но я до сих пор не могу отблагодарить Бога за то, что мы вместе. Тебя клонит в сон, меня тоже. Сколько бессонных ночей. Ты бредишь, а я хочу тебе помочь. Быть похожей на тебя. Мы будто бы вместе сходим с ума, и весь мир вместе с нами. Это они ненормальные, не успевают. А с нами все в порядке, сына, все в порядке.
Ты никогда не ценил жизни, никогда. Игрался с ней, обменивал по дешевке. Зачем ты заставлял меня волноваться? Ты мне сердце разбивал, но я из материнской любви собирала его заново и протягивала тебе. Оно вечно выскальзывало из рук. Разве я не обеспечила детство? За что ты меня так усердно ненавидишь? Ты не голодал. Морозился только от собственной глупости. Внимания не хватало? Внимания? Все в моих разумных силах приложила, чтобы ты учился, а ты что? Я тебе деньги на обед кладу в портфель, ты их пускаешь на сладости и сигареты. Я знаю, что ты куришь, знаю! Ты пытался скрываться? Наверное, это Паша, из той семьи неблагополучной. Почему ты не радуешься, что ты родился и вырос в семье? А не в детдоме. У вас драка была с этой, как его, Леной? Или Олей? Когда ты гадостей ей наговорил, а она за себя заступилась. Как ты мог, дурак? Сначала она тебя по голове, потом отец тебя попе. Но вот больше его нет, и тебе что, не хватает? Благодарить Бога надо, что ты не в Пашиной семье родился. Как и он, начал бы с травки, а закончил… как и все закончил, в горе.
Но ты все равно с ним рос, друзья не разлей вода. И во что он тебя втянул, во что? Тебе там места никогда не было, родной. Ну ты посмотри на себя. Кожа да кости, какие драки? Какие разборки? Какой криминал? Тебе в нем, не дай Бог, только жертвой стать. И что ты узнал из такой жизни? Поделись со мной, может, я что нового узнаю. Ты прости меня, что я тебе мораль читаю, но я же мать, чем мне еще заниматься? Не учу, нет, ты уже всему сам научился. С другой стороны показываю, что есть люди, которые за тебя беспокоятся, кому на тебя не наплевать. Кто будет тебе еще передачки носить? Я думала умру, когда мне позвонили из полиции и сказали: «Ваш сын задержан». Я – рыдать, кожу с себя заживо сдирать. Звонить всем, кому только можно, но никто не был в силах помочь. Тогда я сама пришла к ним. Не помню я, как его звали, и помнить не хочу. Лицо у него только было как у твоих друзей, только с погонами, в форме и на один-два зуба больше. Умоляю, объясняю, что это все Паша, ты-то здесь был причем? Мой сын ни в чем не виноват. А он мне вот это, вот тот, все на тебя выводит. Что мне оставалось делать. Посмотри на меня – я не красива больше, время молодости давно прошло. В школе за мной бегали, а теперь и я… побежала… Сделала, как считала нужно, и тогда же тебя и отпустили. Как я тебе раньше такое скажу? Узнают люди, начнут шептаться. Слухи шли, но разве это важно? Ты пропускал их мимо ушей, не верил, лез с одноклассниками драться. А ведь вы все правы были. В какой-то степени.
Я долго прожила и хочу, чтобы с тобою было так же. Немногое зависит от тебя, но что ты поделаешь с этим? Выбирай друзей по уму, не по чувствам. Не связывайся с тем, с чем не готов повеситься или утонуть. А по-хорошему – обойди и это стороной. Любовь не ищи с деньгами, любовь бедна, а состоятельность только от тебя одного, родной, зависит. Скажи – ты не держишь на меня обиду? Почему я так подумала – не знаю. Никто тебе не выгонял, я всегда хотела, чтобы ты был рядом. Ведь любовь матери, она такая… Может показаться навязчивой, но, прошу, не думай так. Никто не хочет, чтобы их чадо росло и исчезало. Мы рождаем вас ради того, чтобы вы жили дальше, но не даем этого сделать, потому что не верим в то, что это произойдет. Дай я тебя обниму, ну, не сопротивляйся, порадуй маму.
У тебя угри все не проходят… Сколько раз я тебе говорила: завязывай ты с этим. Жрешь одно сладкое, смотреть противно. А ты думаешь, от чего прыщи-то? От хорошей жизни, да. Кола, мучное, все вот это. Куда оно уходит – кожа да кости! Ты не хочешь про угри разговаривать? Мне в школе говорили, как над тобой смеются. Одноклассники твои, как их там… из детдома. Тьфу, из пансионата за окном. Пономаренко и Усов, не помню имена. Учительница вас разминает, а ты тоже драться лезешь. Терпеть не можешь, я тебя понимаю. Нельзя терпеть над собой издевательства, никогда нельзя. Очень жаль, что рядом нет отца, кто мог бы тебя научить этому. Его тоже в школе, того… Вот как бороться с травлей? Я не педагог, но в отличие от них я всегда рада и готова помочь тебе. Ты мой сын, ты моя кровинушка. Расскажи мне, как же ты умудрился позволить… Прости, я не это имела в виду. Хотя кому я вру? Именно это. Ты хоть и сын мне, но жалость во мне не бесконечная. Схватили тебя они, вдвоем, а ты зубы спрятал. За волосы взяли и кинули о стену, ты корчись, сопротивляйся. Кидал в них кулаками. Почему не звал на помощь? Почему не кричал? Ты гордый, да? Конечно, гордый. И где теперь твоя гордость? Окунули. Ножом грозили? Но не нашли уже у них ничего… Я тебе верю… Я тебе верю… не хочу, но буду, обязательно буду.
От того все и проблемы у вас, мальчишек, из-за девочек. Твои переживания – говори не говори – я все равно все вижу беспокойство. Тебе стыдно смотреть в зеркало, во все, в чем можно рассмотреть отражение. Ты для меня самый красивый, ведь я смотрю в твою душу через глаза. Шершавая кожа, красная, пораненная. Говорила же – нельзя давить, нельзя. Иначе никогда не пройдет. Давай я сама. Вот, смотри. Эта штука, как пинцет, специально для фурункулов сделана. Берешь перекись, ватный диск, смачиваешь прыщ. Обязательно моешь руки перед этим, иначе заразу занесешь. И не давишь, а просто вот так, легонько. Не больно? И пинцетом надавливаешь на прыщ. Это гной, жирные руки, все оттуда. Комплексы в тебе давно росли и в пубертате только укрепились. Не обращают девочки внимания, и даже били. Только одна та шалава – и где она, а? Ладно, ладно. Не буду я больше. Послушай мать – как мне простить ее за то, какое горе она тебе принесла? Что тебе юность принесла – только ненависть и зависть к остальным!
Я боюсь за то, кем ты можешь стать. Что вырастет из тебя такими темпами? Оттого и не могу я оторвать тебя от груди. Ведь я твоей спасение. Кто еще есть у тебя? Друзья, что при первых же бедах отвернутся; девушки эти, современные, останутся у себя в Купчино или Тропарево вместо того, чтобы последовать за тобой на землю, полную испытаний, где силы-то только в друг друге искать можно. Прошло так мало лет, а ты так много пережил. И наш развод, и травлю, и разбитое сердце, так еще и болезнь… За что она нас так? Так и маньяком можно стать. У нас в округе бывал такой один, хранил детейВ убитых в гараже, пятьсот метров от дачи самого Ельцина! Представь, какая наглость. Ты не забывай – это все временно, это все не навсегда. Одноклассники пройдут, учителя – их имена забудутся. Наступит жизнь разгульная, где ты сделаешь себя заново. Не приходится матерям такое говорить, но не забывай, кто ты есть – но пусть тебя другие забудут, и ты сможешь начать новую жизнь. Новую прекрасную жизнь.
У тебя жар спал? Будем мерять? Нет? Ты хочешь спать, я вижу. Я рядом полежу, мешать не буду.
***
– Да? – ответил грубый голос.
– Здравствуйте, – раздалось в телефоне, – я хотела бы врача вызвать на дом. Сын болеет, боюсь его из дома выводить.
– А какие симптомы?
– Да все странно. Думала грипп, а температура то есть, то нет, сейчас вообще ниже нормальной. И сопли, и кровь из носа, и живот у него болит. Все не слава Богу!
– Диктуйте адрес, – женщина с регистратуры потянулась к карандашу. – Не так быстро. Ага, ага. Номер СНИЛСа еще. Спасибо, минуту.
– Какая минуту? – подняла голос мать. – У меня ребенок, может, умирает. Как можно медлить?
– Не можем найти номер в базе и карту регистрационную.
– Карта у меня на руках. Прошу, приезжайте скорее!
От городского госпиталя – рукой подать. Машина скорой помощи не спеша выехала из гаража. Светофоры они не проезжали – водитель и санитар с наслаждением курили. Доктор смотрелась в боковое зеркало и не могла понять, растут ли у нее волосы на переносице. Небо хмурело, с опозданием зажглись вдоль дороги фонари. Машина завернула во дворы. Среди одинаковых домов сложно было найти нужный корпус. Скорые заезжали сюда нечасто.
– Эй! – крикнул водитель мужчине в кожаной кепке. – Скажи, где здесь восьмой корпус.
– Да вот тут, – он показал пальцем за дом позади него. – Какой подъезд?
– Второй, – крикнула врач.
– Следующий, – сказал мужчина и смачно харкнул за спину.
Врач и санитар подошли к домофону и позвонили в нужную квартиру. Дверь без слов открылась. На четвертом этаже они нашли квартиру: на пороге стояла женщина в халате; лет сорока, с серыми, как пепел, волосами. Под глазами светились фиолетовые круги. Вид у нее был болезненный, тревожный. Она пыталась зажечь сигарету, но спички тухли, не успев приблизиться к губам. Очевидно, они приехали по адресу.
– Наконец-то! – вскрикнула женщина. – Быстрее! Проходите внутрь, скорее. Моему сыну плохо!
– Женщина, не паникуйте! – строго приказала врач. – Давно болеет?
– Давно, давно. Я его сама лечила, давала таблетки. Ему лучше становилось. Часто болеет.
– Самолечение? – с недовольной ухмылкой спросил санитар.
– Где больной? – спросила врач.
– У себя в комнате, проходите. Можете не разуваться.
Они подошли к двери, завешанной стикерами и плакатами. Открыв ее, врач и санитар почувствовали странный запах. В комнате настоялась тяжелая вонь. На кровати, укутанный в одеяло с головой, лежал человек. Длинные волосы торчали наружу, словно осьминог на солнце.
– Он спит? – спросила врач.
– Может быть. Давайте я его разбужу, – женщина наклонилась к голове сына. – Родной, вставай. Тебя сейчас врачи посмотрят.
Женщина стянула одеяла, и санитар застыл. Врач от испуга вскинула руки. Ладони опустели, чемоданчик ударился об пол. Мир будто бы треснул. Под одеялом они увидели мертвенно-бледное тело. Его губы посинели, глазные впадины давно лишились крови. Казалось, что вот оно, тело – прямо на глазах распадается на кусочки и с минуты на минуту из него полезут жуки и паразиты. Все было понятно, но – они не могли и подумать, что мать смогла бы пропустить смерть сына – врач поднесла ладонь к шее ребенка. Холодный. Мертвый. Ни о каком пульсе не могло быть и речи.
– Понимаете, – говорила мать, – он у меня с самого детства болезненный. Легкие, печень. В школу пошел – гнобили, отец нас бросил. Я не знаю, как вообще выдержала все это. А теперь и он заболел. Выходить из дома не хочет, со мной не разговаривает, а только ругается. Скажи врачам, как ты себя чувствуешь, родной. Видите? Видите? Молчит, назло молчит. Я сама все скажу за него. В общем, бронхит был, грипп, ОРВИ… Избили его как-то, перелом на тренировке. Но это все пустяки, я знала, что он все переживет. Потом ночью начал кашлять, знаете, еще пытался сделать вид, что все в порядке. Насильно заставлял себя замалчивать, лицо в подушку прятал. Так мило было, за сон мой волновался. Я ведь работала почти всегда, пока он не заболел. Взяла больничный, сижу с ним и….
мама без сына
I
В палате настоялось горе. Зинаида Петровна сидела у кровати, в которой лежал ее сын, а если быть точнее, то, что от него осталось. Тело потеряло былую красоту, здоровьем даже и не пахло. Ранее спортсмен, а теперь больной в вегетативном состоянии, без шанса на реабилитацию. Пока за окном пели птицы и перекрикивали друг друга маляры, она плакала без остановки, умоляя Всевышнего прислушаться к ней хотя бы на минуту. Ни для кого не секрет, что Господь слышит всех и всегда, но Зинаида Петровна была уверена, что Бог слушал ее вскользь, оттого и сыну не легчало. Она проклинала всех, кого видела в больнице: пациентов и их родных, кто также обращался к Богу от беды; циничных врачей, неспособных понять ее тревоги; остальных сотрудников больницы, отрешенных и, конечно же, робких друзей, ждущих своей очереди за дверью.
Зинаида Петровна держала сына за руку и вздрагивала от мельчайшего шороха. Вот сейчас он очнется, сожмет ее руку и улыбнется – внушала она себе – и все станет как прежде хорошо. Не смущал Зинаиду Петровну резкий запах мочи и формалина. Она корчилась, отворачивала нос, только девать его было некуда.
– Сына, мама рядом, – приговаривала она, наводя сына обратно к реальному миру, миру живых.
Но он, по своей юности и глупости, упорно не слушал. Горе сменяло злость, злость раздражала, и вот она выкачивала из Зинаиды Петровны последние соки. Виновник произошедшего был только один – она сама. Зинаида Петровна успела сотни раз приговорить себя к смерти за то, что не уследила за своим сыном, не научила его жизни и оставила без присмотра. Следующими в расстрельном списке были друзья. Говорила же – не водись с ними, ни к чему хорошему не приведут наркоманы.
– Я таких десятки знала, – взрыд рассказывала она, – подруга твоего отца кололась, квартира превратилась в притон, спала на лестничной клетке, в окружении шприцов. Это конец, а не жизнь. Все начинается с веселья, а о будущем кто думать будет? Зачем о нем думать, ведь с наркотиками его нет!
Сын не реагировал, не язвил, не отворачивался. Лежал себе в коматозном состоянии, пока мама над ним изливалась горькими слезами.
II
В палату зашел врач. Высокий, статный, с седой бородой. От него пахло сигаретами. На лице прослеживалась невыносимая усталость. Он не ожидал увидеть Зинаиду Петровну в палате, хоть и сидела она здесь больше недели.
– Доброе утро, Зинаида Петровна, – сказал врач.
– Здравствуйте, Петр Сергеевич.
Хоть врач был и старше Зинаиды Петровны, она обращалась к нему с такими тоном, который свойственен общению с детьми. Быстро исчезло к нему доверие. Мысль о том, что жизнь сына находится в руках такого бесчувственного и циничного человека, не давала ей спать. Она не скрывала этого. На второй день ночевки в больнице, она прямо сказала Петру Сергеевичу, что если ее сын умрет, то виноват будет именно, халатный старикашка. Это сильно оскорбило Петра Сергеевича, настолько, что он собирался за волосы выгнать ее из больницы, но не стал. Старым он себя не считал и другим того позволять не собирался. Не первый раз он встречает человека в подобном упадническом состоянии вечной злобы и обиды, и причины ему были более-менее понятны.
– Вы же сюда пришли чтобы меня выгнать, да? – спросила Зинаида Петровна.
– Нет, вы что? Сидите, я за больничным листом пришел, – Петр Сергеевич подошел к столу, засыпанном цветами и сладостями, щедро купленными со скидкой в магазине через дорогу. – Да где же он?
– Петр Сергеевич, есть какие-то изменения?
– Вы их видите?
– Эм, нет, – с недопониманием ответила мать.
– И я тоже. Значит, нету.
– А как же анализы? Лечение? Лекарства? Зачем его тогда всего искололи?
– Зинаида Петровна, я с вами об этом еще на прошлой неделе говорил, – Петр Сергеевич сел на кровать, чуть не сдавив ногу больного. – Я понимаю, насколько вам тяжело. Немыслимо. Не дай Бог кому столкнуться с этим. Многие бы уже в петлю полезли, каждому бы вашу стойкость. Каждый день мы смотрим изменения и… Их нет. Шансы, что ваш сын вернется к нормальной жизни, равны нулю. Есть возможность отправить его за границу на лечение, но это слишком большие деньги для… Но! Но! Не начинайте. Если вы действительно сможете все продать, что у вас есть, то хватит максимум на половину курса; от половины пользы будет столько же, сколько если он дальше здесь у нас находиться будет. Мы с вами уже об этом говорили, помните? Кредит возьмете? Тогда ваш сын, если все-таки все наладится, будет остатки жизни в костылях отрабатывать его.
– Как вы можете такое говорить? – Зинаида Петровна не могла сдерживать слезы.
– Мне очень тяжело, как и вам, но не стоит порождать дополнительные муки. Вы не должны страдать за своего сына.
– Уйдите, пожалуйста! – закричала Зинаида Петровна. – Ой, кажется, мне нехорошо…
Петр Сергеевич подбежал к белому шкафу и достал из него бутылку воды, платок и нашатырь.
– Вот, попейте. Станет легче. Поймите же, Зинаида Петровна, что я врач. По профессии и головой. Пришел же к этому не вдруг, а с годами работы. Все мои действия и мысли направлены на то, чтобы сделать вашему сыну лучше. Немногое в наших силах, такая уж человеческая судьба, и я прошу вас взглянуть на ситуацию иначе. Скажите, насколько вы уверены, что вашему сыну хотелось бы вот так лежать?
Зинаида Петровна перестала его слушать. Она сложила руки на груди сына и мирно уснула. Прошлая ночь забрала остатки ее сил. Было сложно признаться самой себе в усталости. Плоть слаба даже у тех, кто обязан быть сильным; кто обязан жить ради другого. Порой формируются без спроса мысли плачевные, грязные и не свойственную человеку вовсе. Зинаида Петровна от них отбивалась, принимая за попытки дьявола предать собственного сына и забрать обе души в преисподнюю. Сон не принес ей успокоения, а наоборот – она видела тьму, но не пустоту; ощущала ее как нечто реальное, словно прикосновение руки неприятной, человека из очереди или чужого ребенка. Фыркая и стонавши, она спала.
III
В ушедший день Петр Сергеевич еще несколько раз заходил в палату, надеясь переубедить Зинаиду Петровну принять правильное решение до начала государственных праздников, но безуспешно: она кричала, распускала кулаки и угрожала всем проклятиями, которых никто не боялся и в которые никто не верил, кроме гардеробщицы. Сначала в глазах персонала она выглядела как человек раненый, кому отчаяние свалилось на плечи, но стоило ей чаще появляться у них на глазах и разводить конфликты, мнение стало иным. «Траур в голову ударил» или «желчь поработила душу». Как бы ни пытались сотрудники ее понять – терпеть Зинаиду Петровну мочи не осталось.
Из палаты она не выходила, перестала мыться. Другие пациенты обходили ее стороной. Посетители принимали Зинаиду за бомжиху на принудительном лечении. Ко многим она подходила и пыталась завести разговор, но слушать нескончаемые истории о несчастье никому не хотелось. Так в ней затаилась обида. Редко, когда ее сваливал сон, в палату приходили уборщицы и друзья сына. Они смотрели на два обездвиженных тела, тяжело вздыхали и уходили. Уборщицы же бурчали, в спешке отмывая пол от следов рабочей обуви. Не дай бог проснулась бы мать и учудила чего.
Питалась она скудно. Сладости со стола не трогала – они предназначались ее сыну. В больничной столовой еда казалась Зинаиде Петровне не то жирной, не то пресной, годной только для животных. Изредка, как акт любопытства и снисхождения, она брала себе тарелку чего-нибудь, съедала кусочек и выплевывала на пол. Поварихи возненавидели Зинаиду и продавали ей только хлеб втридорога. Петр Сергеевич, узнав об этом, был в ярости и пытался заставить Зинаиду Петровну вернуться домой и начать правильно питаться. Уговоры, ласки и обманы – без толку. Муж Зинаиды Петровны, Виктор Анатольевич, в поведении жены не видел ничего странного и утверждал, что она и раньше ела мало. Логично предположить, что раз Зинаида Петровна все время проводила в больнице, то еда в их доме должна была рано или поздно закончиться. Так и произошло. Виктор Анатольевич сначала уговорами, стоя на коленях, упрашивал жену вернуться домой и заняться хозяйством, но поняв, что перед женщиной только кулаком объясниться можно, нещадно избил ее в палате. Она кричала, надеялась, что сын встанет и заступится за нее. Когда на лице проступила кровь, Виктор Анатольевич успокоился, и они вместе ушли домой. Но долго там она не продержалась и на следующий день, оставив за собой еды на месяц вперед, вернулась в больницу. Себе же она и крошки не взяла. Воду пила из крана, и только при случае, если ей Петр Сергеевич напоминал.
По ночам, когда одни спали, а другие стонали от боли, Зинаида Петровна снимала бинты со своего сына и рассматривала его раны. Кожа приживалась плохо, врачи постоянно думали о повторной операции. От легкого касания из тела вытекали полупрозрачные гной и кровь. Петр Сергеевич просил Зинаиду Петровну перестать снимать бинты по ночам, иначе кожа никогда не заживет. Но что вы хотите от женщины, поглощенную унынием? Безнадежно она подтрунивала сына за нос – ему это никогда не нравилось – шептала на ухо о том, что происходило в мире за пределами палаты и читала ему книги.