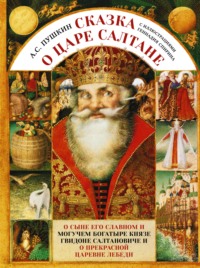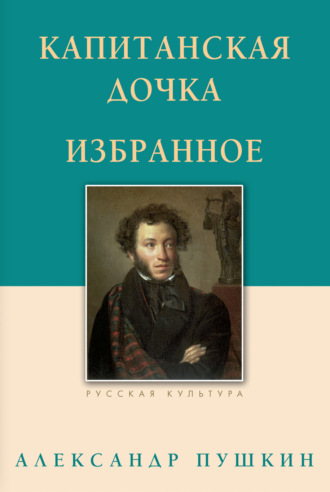
Полная версия
Капитанская дочка. Избранное
Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному.
«Ну, что графиня D.?» – «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R. Что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».
Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.
Корсаков сидел в шлафроке, читая французскую книгу.
«Так рано», – сказал он Ибрагиму, увидя его.
«Помилуй, – отвечал тот, – уж половина шестого, мы опоздаем; скорей одевайся и поедем».
Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.
Корсаков осыпал Ибрагима вопросами: кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливреях и в усах; скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами; гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая по понятиям бояр того времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он скорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел… В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыма, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах: из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на этих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?»[6] – спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима.
Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опоражнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.
Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на это затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт.

Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к этой молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса, а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок большого орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону.
«Ага, – сказал Петр, увидя Корсакова, – попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться».
Делать было нечего: бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, – сказал ему Петр, – штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это – мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился».
Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Этот эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселье. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича Ржевского, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..» – но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.
Глава IV
Не скоро ели предки наши,Не скоро двигались кругомКовши, серебряные чашиС кипящим пивом и вином.Руслан и ЛюдмилаТеперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин; по его выражению, не терпел немецкого духа и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины. Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь его стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступка Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.
День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели – мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни; звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда».
Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.
– Здравствуй, Екимовна, – сказал князь Лыков, – каково поживаешь?
– Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.
– Где ты была, дура? – спросил хозяин.
– Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.
При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.
– А дура-то врет, врет, да и правду соврет, – сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. – Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех, и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи; в колымагу садятся бочком; в двери входят – нагибаются; ни стать, ни сесть, ни дух перевести – сущие мученицы, мои голубушки!
– Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, – сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. – По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом, только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды – поглядишь – сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только.
При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.
– А кто виноват? – сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей. – Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.
– А что нам делать, коли не наша воля? – возразил Кирила Петрович. – Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.
Марья Ильинишна сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях.
– А то в них дурно, – отвечал разгоряченный супруг, – что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами; жены позабыли слово апостольское: жена да убоится своего мужа; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми!
– Сказал бы словечко, да волк недалечко, – сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич. – А признаюсь – ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катит ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет – уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца – куды! влетел! расшаркался, разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье… мамзель… ассамблея… пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.
– Ни дать ни взять – Корсаков, – сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. – А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи!), царский арап всех более на человека походит.
– Конечно, – заметил Гаврила Афанасьевич, – человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону… Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? – продолжал он, обращаясь к слугам, – бегите отказать ему; да чтоб и впредь…
– Старая борода, не бредишь ли? – прервала дура Екимовна. – Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.
Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались как одурелые; гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа», – сказал Петр с веселым лицом.
Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь», – сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки».
Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред тем шумно оживленный весельем и говорливостью, продолжался в тишине и принужденности.
Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностью, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! – сказал он хозяину. – Мне нужно с тобою поговорить наедине», – и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь.
Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порога и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.
Глава V
Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.
Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен; сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:
– Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?
– Как нам знать, батюшка-братец, – сказала Татьяна Афанасьевна.
– Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? – сказал тесть. – Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь не одних дьяков – и знатных людей посылают к чужим государям.
– Нет, – отвечал зять, нахмурясь. – Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, – но это статья особая.
– Так о чем же, братец, – сказала Татьяна Афанасьевна, – изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!
– Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.
– Что же такое, братец? о чем дело?
– Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.
– Слава богу, – сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. – Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, – дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?
– Гм, – крякнул Гаврила Афанасьевич, – за кого? то-то, за кого.
– А за кого же? – повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.
– Отгадайте, – сказал Гаврила Афанасьевич.
– Батюшка-братец, – отвечала старушка, – как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?
– Нет, не Долгорукий.
– Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?
– Нет, ни тот, ни другой.
– Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?
– Нет, не он.
– И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?
– За арапа Ибрагима.
Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»
– Батюшка-братец, – сказала старушка слезливым голосом, – не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному дияволу.
– Но как же, – возразил Гаврила Афанасьевич, – отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?
– Как! – воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел. – Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа?
– Он роду не простого, – сказал Гаврила Афанасьевич, – он сын арапского султана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и…
– Батюшка, Гаврила Афанасьевич, – перервала старушка, – слыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.
– Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.
В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но почувствовал сопротивление. Он сильно ее толкнул – дверь отворилась – и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.
Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и, когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое.
Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе – и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.
– Что Наташа? – спросил он.
– Худо, – отвечал огорченный отец, – хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.
– Кто этот Валериан? – спросил встревоженный старик. – Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?
– Он сам, на беду мою, – отвечал Гаврила Афанасьевич, – отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Но решено: она выйдет за арапа.
Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере, столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:
– Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает?