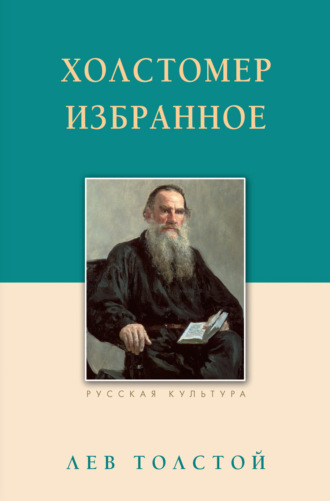
Полная версия
Холстомер. Избранное
– Все?
– Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?
– Послушай, говори правду, как товарищу, – сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. – Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет… Казенные деньги были?
Ильин вскочил с дивана.
– Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что… и, пожалуйста, не говори со мной… пулю в лоб – вот что мне осталось одно! – проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.
– Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.
Граф вышел из комнаты.
– Где стоит Лухнов, помещик? – спросил он у коридорного.
Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.
– Вы, кажется, меня не узнаете? – сказал граф, решительными шагами подходя к столу.
Лухнов узнал графа и спросил:
– Что вам угодно?
– Мне хочется поиграть с вами, – сказал Турбин, садясь на диван.
– Теперь? – Да.
– В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. Не угодно ли винца? Доброе винцо.
– А я теперь хочу поиграть немножко.
– Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет; а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.
– Так не будете?
Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.
– Ни за что не будете?
Опять тот же жест.
– А я вас очень прошу… Что ж, будете играть?..
Молчание.
– Будете играть? – второй раз спросил граф. – Смотрите!
То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.
– Будете играть? – громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. – Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? Третий раз спрашиваю.
– Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! И вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, – заметил Лухнов, не поднимая глаз.
Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, – и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры.
Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.
– Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем нумере еще пробуду полчаса, – прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.
– Мошенник! грабитель!.. – послышалось оттуда. – Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в нумере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы – все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.
На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.
– На! отыграл! – сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. – Сочти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, – прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.
Глава VIII
Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой нумер переодеваться.
Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что барорай (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула.
– Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, – сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.
Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.
– У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, – сказал он, – это твои, стало быть.
– Хорошее дело! давай!
Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.
– Убирайся! Илюшка!.. слушай меня… на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. – И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.
Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню.
Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.
Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.
Когда выехали за заставу, тройки остановились и все стали прощаться с графом.
Ильин, выпивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.
Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.
– Назад! – крикнул он.
Ямщик не понял вдруг.
– Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!
Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.
Глава IX
Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего уродливого молодого появилось на свет Божий.
Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком… При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.
В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные мягкие морщины. Она уже не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое именьице и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась, а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.
В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги – занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уже ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза были уже слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.
– Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забываю, – сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.
Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.
– Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! – сказала она, перекладывая карты. – Вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали, – прибавила она, незаметно снимая одну карту.
– Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.
– Нет, право, значит, удастся. Вышло.
– Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?
– Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.
И Лиза вышла из двери.
– Лизочка! Лизанька! – заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку. – Опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!
– Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.
И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.
– Вот вам, чтобы не спускали петлей, – сказал она, смеясь, – урок и не довязали.
– Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.
Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.
– Ну, поцелуйте же меня за это, – сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку. – Вам с ромом нынче чаю. Нынче ведь пятница.
И она опять ушла в чайную.
– Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! – послышался оттуда звучный голосок.
Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.
– А жаль, сестрица, – заметил дядя Анне Федоровне, – жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры – ведь это все такая молодежь, славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.
– Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната – вот и все. Где ж их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит: чисто тоже.
– А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! – сказал дядя.
– Нет, я не хочу гусара; я хочу улана; ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.
И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.
– Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, – сказала она.
Анна Федоровна велела позвать Устюшку.
– Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть, – сказала Анна Федоровна. – Ну что, где поместились офицеры?
– У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие, один граф, сказывают.
– А фамилия как?
– Казаров ли, Турбинов ли – не запомнила, виновата-с.
– Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.
– Что ж, я сбегаю.
– Да уж я знаю, что ты на это мастерица, – нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтоб он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.
Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.
– Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то, – говорила она, – просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.
Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.
– Так вот как тебе понравились гусары, – сказала Лиза, – да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, – кисленьким гусаров поить.
И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты. «А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, – думала она, – брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и о нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, – подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. – Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Иван Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня!»
Голос матери, звавшей ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.
Лучшие вещи всегда выходят нечаянно, а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя – дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять и сбирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уж слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, – но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у нее были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем – уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, – так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.
Глава X
Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой – очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.
Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.
– Где квартира для нас отведена? – спросил его граф.
– Для вашего сиятельства? – отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом. – Здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.
– Ну, хорошо, – сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы. – А что, коляска моя приехала?
– Изволила прибыть, ваше сиятельство! – отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед, в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицера. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.
Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.
– Фу, мерзость какая квартира! – сказал граф с досадой. – Дяденко! разве нельзя было лучше отвести у помещика где-нибудь?
– Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, – отвечал Дяденко, – да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.
– Теперь уж не надо. Ступай.
И граф лег на постель, закинув за голову руки.
– Иоган! – крикнул он на камердинера. – Опять бугор по-середине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.
Иоган хотел поправить.
– Нет, уж не надо теперь… А халат где? – продолжал он недовольным голосом.
Слуга подал халат.
Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.
– Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! – прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его. – Ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..
– Я не мог успевать, – отвечал Иоган.
– Дурак!
После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его, а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, – должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.
– Иоган! – крикнул он снова, – подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?
Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.
– К чаю рому подай.
– Рому не покупал, – сказал Иоган.
– Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!
– Денег недоставало.
– Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.
– Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.
– Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения… знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.
– Вот два письма из штаба к вам, – сказал камердинер.
Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.
– Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.
– Очень хорошо! Поганая, вонючая изба, и рому нет по твоей милости: твой болван не купил и этот тоже. Ты бы хоть сказал.
И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.
– Отчего же ты не купил рому? – спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика. – Ведь у тебя деньги были?
– Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.
Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф улыбаясь читал его.
– От кого это? – спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.









