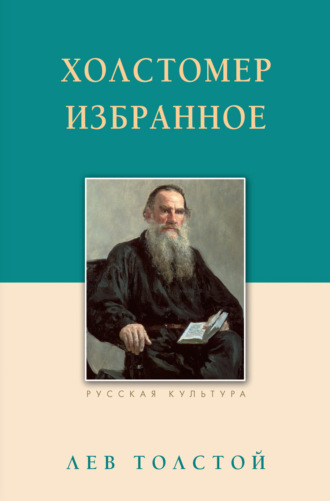
Полная версия
Холстомер. Избранное
Глава XV
Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку из-под тенистого навеса на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок ульи с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину, к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшаника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко, радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастием.
– Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, – сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. – Меня пчела знает, не кусает, – прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.
– Так и мне не нужно. Что, роится уж? – спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.
– Коли роиться, батюшка Митрий Миколаевич, – отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству, – вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.
– А вот я читал в книжке, – начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, – что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие ульи из досок… с перекладин…
– Вы не извольте махать: она хуже, – сказал старичок. – А то сетку не прикажете ли подать?
Нехлюдову было больно, но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в средине рассуждения.
– Оно точно, батюшка Митрий Миколаевич, – сказал старик, с отеческим покровительством глядя на барина, – точно в книжке пишут. Да, может, это так – дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, – прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам, – вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше, – говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. – Вот нынче она с калошкой идет; нынче день теплый, все видать, – прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его, но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника: пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.
– А много у тебя колодок? – спросил он, отступая к калитке.
– Что бог дал, – отвечал Дутлов, посмеиваясь, – считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, – продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, – об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.
– Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! – отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.
– Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает, – говорил старик, не замечая ужимок барина.
– Хорошо, после, сейчас… – проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.
– Землей потереть: оно ничего, – сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.
Глава XVI
– Что я насчет ребят хотел просить ваше сиятельство, – сказал старик, как будто или действительно не замечая грозного вида барина.
– Что?
– Да вот лошадками, слава те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.
– Так что ж?
– Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.
– Куда ж они пойдут?
– Да как придется, – вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. – Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.
– Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, – сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. – Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?
– Когда не выгоднее, ваше сиятельство! – опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами, – дома-то лошадей кормить нечем.
– Ну, а сколько ты в лето выработаешь?
– Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублев денег привез.
– Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, – сказал барин, снова обращаясь к старику, – но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, – прибавил он, повторяя слова Карпа.
– Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? – возразил старик с своей кроткой улыбкой. – Съездишь хорошо – и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал и дурного ни от кого не видал, окроме доброго.
– Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей, и лугами…
– Как можно, ваше сиятельство! – подхватил Илюшка с одушевлением, – уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!
– А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть, – сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.
Глава XVII
Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил:
– Чем вас просить, ваше сиятельство?
Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.
Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.
– Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще больше.
Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.
«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь, – подумал Нехлюдов. – Отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.
– Что ж, батюшка Митрий Миколаевич, как насчет ребят-то прикажете? – сказал старик.
– Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, – вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. – Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю…
Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.
– Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? – перебил он барина.
– Да ведь небольшую рощу, рублей в двести, – заметил Нехлюдов.
Старик сердито усмехнулся.
– Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, – сказал он.
– Разве у тебя уж этих денег нет? – с упреком сказал барин.
– Ох, батюшка ваше сиятельство! – отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери, – только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.
– Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? – настаивал Нехлюдов.
Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.
– Може, злые люди про меня сказали, – заговорил он дрожащим голосом, – так, верите Богу, – говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе, – что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, окроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо – вы сами изволите знать: избу поставили…
– Ну, хорошо, хорошо! – сказал барин, вставая с лавки. – Прощайте, хозяева.
Глава XVIII
«Боже мой! Боже мой! – думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге, – неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.
Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило: не то и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило: не то и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, – мысль, что любовь и добро есть истина и счастие, и одна истина и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило: не то; он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! – говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. – Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, – говорил он сам себе. – Любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастие!» – твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни, и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это – то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», – думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним.
Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятил на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность – у него есть крестьяне… И какой отрадный и благодарный труд представляется ему: «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро… Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастия, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»
«И кроме этого, – в то же время думал он, – кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, со старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает… Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее как на какого-то ангела, на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы»…
Глава XIX
«Где эти мечты? – думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому. – Вот уже больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою, но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия. Я не испытал наслаждений и уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастие, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность… но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», – подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире – к славе.
«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, – подумал Нехлюдов про своего друга, – а я…»
Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.
Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекра, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу…
Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.
Глава XX
В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.
– Что, завтракать будете, ваше сиятельство? – сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха в чепце, большом платке и ситцевом платье.
Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.
– Нет, не хочется, няня, – сказал он и снова задумался.
Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:
– Эх, батюшка Дмитрий Николаевич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет – ей-богу…
– Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? – отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.
– Да как не скучать, разве я не вижу? – с жаром начала говорить няня, – день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям, а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, – продолжала няня, садясь около двери. – Ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала… – усовещивала его няня.
Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колене, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий… Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного, жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо. То он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» – шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это, – думает он и шепчет: – Странно!» – продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, что его не пустят в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело; и он видит серое, раннее, туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие, сытые кони, погромыхивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колокольчиками, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.
– А-а-ай! – громко, ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который под рогожей передка славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: издалече ли и много ли ужинать будут, с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими, сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи, помилуй», и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше…









