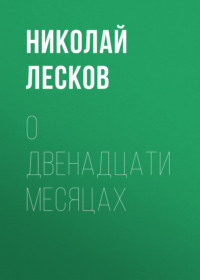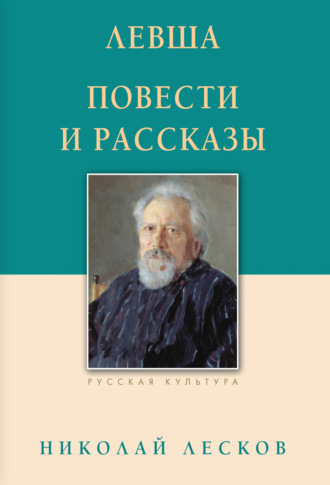
Полная версия
Левша. Повести и рассказы
– Просился я в работу, – начал Николай Данилов. – Просился со всеми ребятами еще осенью; ну, он нас в те поры не пустил. А мне беспременно надыть было сходить в Черниговскую губернию.
– Деньги, что ли, остались за кем-то?
– Нет.
– Что же?
– Так; другое дело было.
– Ну!
– Ну, не пустил. Заставил на заводе работать. Я поработал неделю, да и ушел.
– Куда?
– Да туда ж, куда сказывал.
– В Черниговскую губернию?
– Ну, да.
– Что ж у тебя за дело такое там было?
– Водку дешевую пить, – подсказал становой.
Николай ничего не ответил.
– Ну, что ж дальше было?
– А дальше зариштовали меня в Корилевце да пригнали по пересылке в наш город и, пригнамши, сдали управителю. – Без наказания?
– Нет, наказали, а опосля ему отдали. Он меня сичас опять на работу приставил, а я тут-то, ден десять назад, опять ушел да зашел в свою деревню, в Жогово. Ну, там меня бурмистр сцапал, да опять к управителю назад.
– Что ж он, как привезли тебя к нему?
– Велел на угле сидеть!
– Как на угле?
– А так. Ребята, значит, работают, а я чтоб на угле, на срубе перед всем миром, сложимши руки, сидел.
– Ну, ты сидел?
– Я опять ушел.
– Зачем же?
– Да я ему молился: говорил: «Позвольте, стану работать». Не позволил. «Сиди, – говорит, – всем напоказ. Это тебе наказание». – «Коли, – говорю, – хотите наказывать, так наказывайте, чем вам угодно; высеките, – говорю, – меня лучше, чем буду сидеть всем насмех». Не уважил. Как зазвонили на обед, ребята пошли обедать, и я ушел, да за деревней меня гнали.
– Ну?
– Ну, тут-то уж он меня и обидел больше.
– Чем же?
– На нитку привязал.
– Как на нитку?
– Так, – покраснев до ушей, нараспев проговорил Николай Данилов. – Привел к заводу, велел лакею принести из хором кресло, поставить это кресло против рабочих, посадить меня на него, а в спинку булавку застремил да меня к ней и привязал, как воробья, ниточкой.
Все засмеялись, да и нельзя было не смеяться, глядя на рослого, здорового мужика, рассказывающего, как его сажали на нитку.
– Ну, и долго ты сидел на нитке?
Николай Данилов вздохнул и обтерся. У него даже пот проступил при воспоминании о нитке.
– Так целый день вроде воробья и сидел.
– А вечером пожар сделался?
– Ночью, а не вечером. В третьи петухи, должно, загорелось.
– А ты как узнал о пожаре?
– Крик пошел по улице, я услыхал; вот и все.
– А до тех пор, пока крик-то пошел, – спрашиваю его, – ты где был?
– Дома, спал под сараем.
Говорит это покойно, а в глаза не смотрит.
– Ну, а управителя как выгнали?
– Я этого не знаю ничего.
– Да, ведь, чай, видел, как перед заводом на кулаки-то подняли!
Молчит.
– Ведь тут уж все были?
– Все.
– И все, должно быть, били?
– Должно, что так.
– И ты поукладил?
– Нет. Я не бил.
– Ну, а кто же бил? – Все били. – А ты никого не заприметил?
– Никого.
Взяли Николая Данилова в сторону и начали допрашивать ночных сторожей, десятников, Миколаевых семейных, соседей и разных-разных людей. В три дня показаний сто сняли. Если б это каждое показание записать, то стопу бы целую написал, да хорошо, что незачем было их записывать, – все как один человек. Что первый сказал, то и другие. А первый объяснил, что причины пожара он не знает; что, может, это и заподлинно поджог, а может, и Господь про то только знает; но что он сам в поджоге не участвовал и подозрения ни на кого не имеет, опричь, как разве самого управителя, потому что он был человек язвительный, даже мужиков на нитку, вроде воробьев, стал привязывать. Управителя же никто не выгонял, а он сам по доброй воле выехал, так как неприятность ему была от мужиков: побили его на пожаре.
– Кто ж бил-то?
– Все били.
– И ты бил?
– Нет, я не бил.
– Ну, заприметил кого-нибудь?
– Нет, миром били.
– А ты, стало, от мира отстал?
Долгое молчание, а потом решительный ответ:
– Я не бил.
– Кто ж бил?
– Миром били.
– За что?
– Уж очень он нас донял; даже на нитку, вроде как воробьев, стал привязывать.
Следующие девяносто девять показаний были дословным повторением первого и записывались словами: «Иван Иванов Сушкин, 43 лет, женат, на исповеди бывает, а под судом не был. Показал то же, что и Степан Терехов».
Вижу: разваляют из этого дело ужасное. Подумал-подумал и велел Николая Данилова содержать под присмотром, а становому с исправником сказал, что на три дня еду в О – л. Приехал, повидался с правителем, и пошли вместе к губернатору. Тот вечерний чай пил и был в духе. Я ему рассказал дело и, придавая всему, сколь мог, наивный характер, я убедил его, что, собственно, никакого бунта не было и что если бы князь К. захотел простить своих мужиков, то дело о поджоге можно бы бросить и не было бы ни следствия, ни экзекуций, ни плетей, ни каторжной работы, а пошел бы старый порядок и тишина.
Слова «порядок и тишина» так понравились губернатору, что он походил, подумал, потянул свою нижнюю губу к носу и сочинил телеграмму в шестьдесят слов к князю. Вечером же эта телеграмма отправлена, а через два дня пришел ответ из Парижа. Князь телеграфировал, что он дает мужикам амнистию, с тем, чтобы они всем обществом испросили у г. Дена прощения и впредь не смели на него ни за что жаловаться.
Приехал я с этой амнистией в Солтыково, собрал сходку и говорю:
– Ребята! так и так, князь вас прощает. Я просил за вас губернатора, а губернатор князя, и вот от князя вам прощение, с тем, чтобы вы тоже выпросили себе прощение у управителя и впредь на него не жаловались понапрасну. Кланяются, благодарят.
– Ну, как же? Надо вам выбрать ходоков и послать в город к управителю с повинной.
– Выберем.
– Нужно это скоро сделать.
– Нынче пошлем.
– Да уж потом не дурачиться.
– Да мы неш сами рады? Мы ему ничего; только бы его от нас прочь.
– Как же прочь! Князь разумеет, что вы теперь будете жить с Деном в согласии.
– Это опять его, значит, к нам? – спросили разом несколько голосов.
– Да, а то что ж я вам говорил?
– Таак-то! Нет; мы на это не согласны.
– Вы ж сами хотели нынче ж послать ходоков: просить у него прощения.
– Да, мы прощения попросим, а уж опять его к себе не согласны.
– Так следствие будет.
– Ну, что будет, то нехай будет; а нам с ним никак нельзя обходиться.
– Что вы врете! Одумайтесь: вас половинку поссылают.
– Нет! нет! нам с ним никак невозможно. Нам такого ворога некуда девать.
– Да чем он вам ворог?
– Как же не ворог! Мужика, хозяина на нитку, как воробья, привязывал, да еще не ворог!
– Да забудьте вы эту дурацкую нитку! Эка штука большая! Небось лучше бывало при самом князе. Не издыхали, садовые дорожки подчищавши; не глаживали, как вороные на конюшне стоят?
– Ну, дарма. Он господин, его была и воля; а уж этого, как управитель, он все ж не делал. Господи помилуй! – на нитку вроде воробья сажать… чего мы над собой сроду родясь не видывали.
– Подумайте, ребята!
– Что думать? Думано уж. С ним до греха еще хуже дождешься.
– Ну, он уж не будет вас на нитку привязывать. Я вам ручаюсь.
– Он другое измыслит над нами не хуже этого.
– Что ему измыслять?
– Он язвительный человек такой.
– Полноте, ребята. Надо губернатору ответ дать.
Пауза.
– Что ж! Мы прощенья просить готовы.
– А управителя примите?
– Этого нельзя сделать.
– Да от чего нельзя-то?
– Он язвительный.
* * *Ничего больше от солтыковских мужиков не добились, и пошло уголовное дело.
Леди Макбет Мценского уезда
Очерк
Первую песенку зардевшись спеть.
ПоговоркаГлава I
Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее Леди Макбет Мценского уезда.
Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; роста она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеевич Измайлов, человек уже лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которой он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.
Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча и не то, что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводили на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, Бог весть как рада бы она была поняньчиться с деточкой; а другое – и попреки ей надоели: «Чего шла, да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неро́дица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.
При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.
Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать от скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочевальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пенку вешают или крупчатку ссыпают – опять ей зевнется, она и рада: прикорпеть часок-другой, а проснется – опять та же скука, русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя Киевского патерика, в доме их не было.
Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.
Глава II
На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думала, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.
«Что это я в самом деле раззевалась? – подумала Катерина Львовна. – Семну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».
Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.
На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.
– Чего это вы так радуетесь? – спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.
– А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, – отвечал ей старый приказчик.
– Какую свинью?
– А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, – смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.
Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.
– Черти, дьяволы гладкие, – ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.
– Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест, так и гирь недостанет, – опять объяснил красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье.
Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.
– Ну-ка, а сколько во мне будет? – пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.
– Три пуда семь фунтов, – отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. – Диковина!
– Чему же ты дивуешься?
– Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо – и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.
– Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, – ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.
– Ни Боже мой! В Аравию счастливую занес бы, – отвечал ей Сергей на ее замечание.
– Не так ты, молодец, рассуждаешь, – говорил ссыпавший мужичок. – Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет – не тело!
– Да, я в девках страсть сильна была, – сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна. – Меня даже мужчина не всякий одолевал.
– А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, – попросил красивый молодец.
Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.
– Ой, пусти кольцо: больно! – вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.
Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.
– Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, – удивился мужичок.
– Нет, а вы позвольте так взяться, наборки, – относился, раскидывая кудри, Серега.
– Ну, берись, – ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.
Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было шевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.
Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:
– Ну вы, олухи Царя Небесного! Сыпь, не зевай, гребла́ не замай; будут вершки, наши лишки.
Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.
– Девичур этот проклятый Сережка! – рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья. – Всем вор взял – что ростом, что лицом, что красотой, и улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!
– А ты, Аксинья… того, – говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, – мальчик-то твой у тебя жив?
– Жив, матушка, жив – что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.
– И откуда это он у тебя?
– И-и! так, гулевой – на народе ведь живешь-то, – гулевой.
– Давно он у нас, этот молодец?
– Кто это? Сергей-то, что ли?
– Да.
– С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин. – Аксинья понизила голос и досказала: – Сказывают, с самой хозяйкой в любви был… Ведь вот, треанафемская его душа, какой смелый!
Глава III
Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.
– Здравствуй, – тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.
– Сударыня! – произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны.
– Кто это? – испугавшись, спросила Катерина Львовна.
– Не извольте пугаться: это я, Сергей, – отвечал приказчик.
– Что тебе, Сергей, нужно?
– Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.
Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.
– Что тебе? – спросила она, сама отходя к окошку.
– Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.
– У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, – отвечала Катерина Львовна.
– Такая скука, – жаловался Сергей.
– Чего тебе скучать!
– Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.
– Чего ж ты не женишься?
– Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них как канарейка в клетке содержитесь.
– Да, мне скучно, – сорвалось у Катерины Львовны.
– Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.
– Ну это ты… не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы с ним, кажется, и весело стало.
– Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было…
У Сергея задрожал голос.
– Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе…
– Нет, позвольте, сударыня, – произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. – Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь, – произнес он одним придыханием, – теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.
– Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, – говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.
– Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? – развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.
– Ox! ox! пусти, – тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.
Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.
В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.
– Иди, – говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.
– Чего я таперича отсюдова пойду, – отвечал ей счастливым голосом Сергей.
– Свекор двери запрет.
– Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя – везде двери, – отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.
Глава IV
Зиновий Борисыч еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.
Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.
Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.
– Сказывай, – говорит Борис Тимофеич, – где был, вор ты эдакой?
– А где был, – говорит, – там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, – отвечал Сергей.
– У невестки ночевал?
– Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?
– Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, – отвечал Борис Тимофеич.
– Моя вина – твоя воля, – согласился молодец. – Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.
Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.
Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.
Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», – пришла она к свекру.
Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.
– Что ты это, такая-сякая, – начал он срамить Катерину Львовну.
– Пусти, – говорит, – я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.
– Худого, – говорит, – не было! – а сам зубами так и скрипит. – А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали?
А та все с своим пристает: пусти его да пусти.
– А коли так, – говорит Борис Тимофеич, – так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.