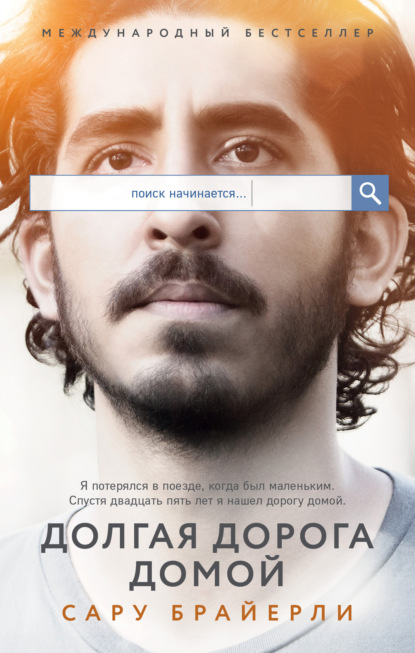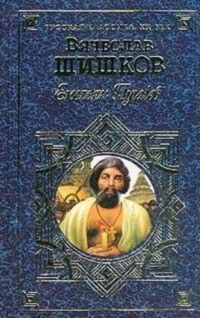Полная версия
Угрюм-река. Книга 1
XV
Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища: коварный тунгус – как в воду.
Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши – Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не зная отдыха, он перемахивал огромные валежины, продирался сквозь непролазные заросли – тайга пуста. Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения: пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть? Назад идти, в Ербохомохлю? Добрых полтыщи верст – дурак пойдет. Вперед? – Неведомо куда. Сидеть на месте – дожидаться тунгусов? Но беглец со страху, наверное, увел их всех на край света.
Измученный, черкес вышел на берег. Желтели и краснели осенние кусты, с осин тихо сыпалось золото листьев, и, словно летом, зеленела кругом тайга. Но шумная Угрюм-река скована морозом, ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны.
Ибрагим с высокого яра кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре.
– Цх! Плохо…
Белки его глаз окрасились желтым, щеки втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности.
Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохора, потом и самого себя…
Ибрагим любовно и трепетно, с неколебимым религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища – кинжала и быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к шитику.
Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко, не переставая, ухал филин; он бормотал студеную зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших своей участи существ.
Прохор, с головой укутанный буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их тунгус, не прошел для Прохора даром: его трепала лихорадка.
Черкес сердит и мрачен. Черт! Надо было бы ограбить тунгуса, отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь? Пусть кровь. Вот он, Ибрагим-Оглы, сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз насквозь режет ножами тело. О, если б встретить тунгуса, сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха, полетели бы с плеч косматые головы, только б жив остался его молодой джигит.
Но джигит стонал, и час от часу ему становилось хуже…
– Ибрагим, голубчик… Дай еще хины!.. Укрой меня.
Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал, не переставая, упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, снежный вал. У черкеса – бешмет, более теплой одежды не было. Плотно укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и левый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли, распухали от холода, когда же отогревал их у огня – болезненно ныли.
С большим трудом он оттаял над костром брезент и кое-как смастерил шалаш вроде чума. В этом игрушечном убежище с отверстием вверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтоб освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть. Но есть нечего. Остатки крупы он берег для Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю.
– На-ка, джигит, кушай. Каша первый сорт. Кушай больше, крепка будышь!
– А сам-то?
– Сыт… Ешь, нэ жалей… У нас всего много.
Ибрагим украдкой сглатывал слюну, когда же Прохор нырял под его бурку, черкес ляскал зубами, как оголодавший барсук.
А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись – серая ночь неслышно сменяла серый снежный день.
Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрязал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, и ее глухой неотвязный скрежет неуемно глодал живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса то застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным пламенем, суетливо надевал самодельные лыжи, выползал на Божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба. Но темная тайна смерти бросала в его сердце лед: кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался черкес домой, залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора.
Когда вышли все припасы, черкес равнодушно сказал юноше:
– Ну, теперича давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка!
Прохор недоуменно уставился взглядом в костистое, неузнаваемое лицо товарища, что-то хотел сказать – язык не повиновался, хотел заплакать – не было слез. Подбородок его запрыгал.
– Матушка… Милая моя матушка!..
Он залез под бурку, молча лежал там, скорчившись. Сморкался.
Вдруг черкес вскочил и, как ночная кошка, внезапно скрылся из палатки. Чуть-чуть хрустнуло и вздохнуло вдали. Черкес наострил душу. В небе леденел мутный лунный круг. Была тишина. Темная, неясная тень виднелась у опушки леса.
С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. «Лось, сохатый», – играло в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин. Близко. Глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего зажатого в зубах кинжала текла слюна. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать подползавшего врага.
Черкес наметил место пониже левой лопатки и, ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце оплошавшего зверя. Одурелый раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы – и все помутилось в глазах черкеса. Вместе с тяжким стоном он едва передохнул и потерял сознание.
Очнувшись, быстро ощупал руки, – они теплы. «Ага, недавно, значит». Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал: режущая боль полоснула ножом по нервам. Он засунул руку за обледенелую ткань бешмета, ощупал бок. Ребра целы, но рубаха взмокла в липкой крови. «Ага, копытом хватил, шайтан!.. Адна пустяк…»
Пахло снегом, схваткой, пахло смертью.
«Зверь! Где зверь?» – мгновенно проблеснуло в голове и сразу утолило боль. Луна так же мутна и улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдавил ладонью правый бок и, согнувшись, пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был расшвырян снег.
На прогалине, задрав вверх задние ноги, весь изогнувшись в корчах, валялся убитый лось.
– Якши! Якши!! – тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад, к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал.
– Прошка! Живы будем! Пятнац пуд говядины есть!.. Шашлык есть, сало есть! Цх!
Прохор маетно поохивал под буркой, не отвечая.
Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой.
Весь день, не угасая, горел огонь, вкусным духом дымился котел с крепким мясным наваром. Прохор вяло глотал горячую пищу. Ибрагим же ел алчно, до одурения. Глаза его стали маслеными и, как у объевшегося зверя, сладко щурились; он громко рыгал. Опять настала ночь.
Сон черкеса крепок, непробуден: поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато Прохор, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к странным звукам: буря ли, черти ли на кулачки бились, – и никак не мог понять, что происходит там, в тайге.
Наутро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголодавшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса работали мерно, сосредоточенно. Накормив Прохора крепким супом, он стал выделывать кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры. Но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Прохора. Он говорил:
– Вот, кулак, будет тэбэ шуба… Нытки есть, игла есть. Якши… Теперича, кунак, холод нам – тьфу! Мясо есть. Поправляйся, кунак, да и в путь… Прямо пойдем, тунгус найдем… А нэ найдем – тьфу! – сами выйдем.
Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого горбоносого, с большим лысым черепом и густыми, лохматыми бровями человека.
– Никогда не расстанусь с тобой… Ежели б не ты, смерть бы мне… Теперь знаю, что такое верный друг.
Сегодня Прохору лучше. Побежденная молодой силой, болезнь уходила под гору. Прохор повеселел. Вот окрепнет, наберет здоровья, и черт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом и марш-марш вперед.
– Ура, Ибрагим!
Под вечер черкес кое-как кончил шубу.
– На-ка, получай бобра… Все равно – енот, все равно – лис… Давай бурка мне, ха-ха – теперича мороз тьфу! Разводи костер, сейчас мяса принесу: лосиный губа будэм варить, почка в сале жарить. – Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул. – Пойду.
Прохор надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма. Болезнь глубоко вдавила их в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты.
Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья как нежить – белы, мохнаты, в инее. Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека: вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесое, чуть позеленевшее на западе небо. Белый месяц яснел и серебрился, словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, сначала скупо – по две, по три, потом целыми горстями, как пахарь новое зерно.
Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к красноязыкому костру.
– Экая благодать, тепло как в шубе-то! – сказал он, раздеваясь, и сердце его наполнилось нежной благодарностью к угрюмому черкесу. – Почему же нет его? Не случилось ли что? – спросил он смолистую чурку и, не получив ответа, бросил ее в пламя.
Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы, взгляд рассеянно скользил по ним.
«1898 год. Кажется, конец октября. Число неизвестно», – низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. «Вот моя болезнь как будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй, скоро свидимся. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что грохай в царь-пушку, не услышишь. Жив я, жив, матушка! Отец, я жив!! Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим, друг мой! Ты убил сохатого. Мы умерли бы от голода – я ведь знаю, что запасов нет. Что ты ни говори мне, Ибрагим, голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все. А теперь мы, слава Богу, сыты. Мяса хватит нам на полгода. Матушка, ура! Кричи – ура! Твой мальчонка жив-живехонек. Вот приедем к тебе и будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем. Покойной ночи, матушка! Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга».
Действительно, за палаткой послышалось кряхтенье. Отпахнулась пола, вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу.
– Что случилось? – тихо спросил он, пугаясь.
Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху и сидел перед костром, втянув голову в плечи.
– А где же мясо-то?.. Ужинать бы.
Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер, наконец проговорил глухим, неверным голосом:
– Нэ нашел я лося.
– Как!
– Чего кричишь? Нэ нашел, говору… Нэт… Тэмно стало… Завтра.
Прохору очень хотелось есть.
– Свари, Ибрагим, каши.
– Нэт каша! – крикнул Ибрагим с желчью.
– Ну, дай сухарей… Чай скипяти.
– Нэт сухарь! Нэт чай. Ничего нэт. Вот две спички есть, спалим – чего станем делать?
Он говорил, словно ругался, отрывисто, резко и каждую фразу отчеркивал свирепым, сыскоса, взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно.
– Почему ты сердишься? Ты болен? – тихо, но укорчиво спросил он.
– Нэ твое дело!
Костер уныло потрескивал, по стенкам палатки ползли бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум.
– Спи! – приказал черкес. – Завтра будэм на воле… Завтра все будэт… Сегодня – спи! Крепко спи… – Он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени.
Сердце Прохора захолонуло, охнуло. Мрачное предчувствие вгрызлось в душу. Он не решался выспрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? «Спи!..» Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их?
Прохора стала бить зябкая дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч через все тело, к ногам; он трясся весь и подпрыгивал, не в силах совладать с собой. Плотно, с головою он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой.
«…Нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все разъяснится, завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску!.. Фу ты, черт… Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю кружку… С ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим!»
Под шубой тепло и глухо.
Плывут над тайгой минуты и часы, заглядывают минуты под шубу, и каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием, что-то тяжелое, нудное шевелится под шубой, гнетет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро? Или еще ночь не кончилась?
«Волки».
Серые, тощие, изогнувшиеся в три погибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков.
– Волки! – вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер. Заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос, потом, отрывисто тявкнув, подхватывала вся свора. Где-то близко, совсем близко. «Они сожрут коня. Они сожрут всех коров, овец, телят. Что ж думает отец?.. Эй, вставайте!..»
– Волки! – опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст намозолившей глаза палатки. – Ибрагим… Волки… Они сожрут нашего лося… Эй!
Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в лицо:
– Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга… Это ветер. Спи.
– Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие… А?
– Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.
Он засопел, засморкался и вышел наружу.
«Волки, – твердо решил юноша. – Вот оно что… В тот раз выли, теперь опять… Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим…»
Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохору чудилось, что в звериное завывание вплетается жуткий человеческий стон. Нет, это гудит в ушах, это болезнь в голове ходит; конечно же, Ибрагим не будет так стонать.
Палатку трепануло сильным ветром. Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Вошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубокие складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты.
– Вьюга. Пурга идет, – отрывисто сказал он. – Ничего, крепись, джигит. – Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью стал глядеть в глаза его.
– Что, Ибрагим, милый?.. Плохи наши дела?
– Якши…
– Яман?
– Якши, якши! Бок – яман… Больно… Кость мозжит, рэбро… – Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:
– Я люблю тебя, Прошка… Люблю… – Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором. – Люблю…
От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый, мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И, как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает – страшное, неотвратимое, – которое слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей, и в нарастающем злобном гуденье леса.
– Спи!.. – сказал черкес вновь отвердевшим, решительным голосом. – Крепко спи, не просыпайся.
И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:
– Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит… Прощай!..
«Что значит – прощай? Почему – прощай?» – силился спросить Прохор и не мог.
С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги родились эти пугающие мысли; в шуме, в визге и в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все чувствования, все обрывки неясных полузвуков-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные вожжи взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «Есть». Неукротимый, сосущий голод.
«Есть!»
Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?
«Прощай, Прошка… Прощай, джигит».
Черкес точил кинжал.
В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал – черкес точил кинжал.
Дзикающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный – этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом.
«Дзик, дзик… Прощай, джигит».
«Черкес наточит кинжал, убьет лося… Притащит лося в палатку… Костер, огонь». Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.
Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.
Черкес точил кинжал.
Надо острей. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острей, острей. Воспаленный взор, мозг, душа – все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей, любя, руке. Резкий, режущий взмах клинка – и…
– Ой, джигит, джигит!..
Капли пота катятся по горбатому носу в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувшая за пределы мысль охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.
Губы шепчут:
– Тебе легко будет, Прошка… А мне как? Ой, ой, Ибрагим-Оглы!.. Где твой Кавказ, где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-алла!..
Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-мозжит разбитое ребро.
– Кто наслал тайге волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще, да еще. Трижды проклят! Цх!
Он уставился много видящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его житейская судьба развернулась пред ним белым, захватанным сажей свитком. Нищий мальчишка – пастух чужих отар, там, у себя в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, первый из всех окрестных аулов наездник и стрелок. Бурная, как кипящая кровь, его любовь к черкешенке; он ее выкрал из-под двадцати замков и под свист разящих пуль примчал в свою нищую саклю, усыпанную цветами с гор.
Но вот белый свиток его жизни кружится, кружится, как на огне береста; черная сажа густо покрывает белизну, и жизнь черкеса становится холодной, как пепел остывшего костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, повенчался железным венцом – кандалами – с каторгой на целых десять лет. Голод, плети, кандалы, мрачные горы Акатуя. О, будь ты проклят, час рождения! За что? Где ты, жена? Где ты, старуха мать? Где ты, зеленый виноград, розы, горячее солнце, густые чинары, песни, пляски у костров при звоне кинжалов? Где ты, синяя лазурь, и молнии, и грохот грома в родных горах? Эх! Все прошло, как сон…
Грузная от дум голова черкеса никнет к сонному костру, трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет.
А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная вьюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно. Костер потухает, спичек нет.
– Прощай, джигит!.. Прости меня, джигит… Спи крепко…
Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух:
«Цх! Так, верно…»
Целует холодное лезвие и опускает в ножны. И вместе с кинжалом опускается в голые потемки вся душа его.
Спасенья нет. Тайге нет краю. Угрюм-река больше не подхватит их быстрый струг.
– Прощай, джигит.
Вдруг грозно и резко завыло все кругом: буря рванула с необычной силой. Убогую палатку, как мыльный пузырь, подхватило напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, отшвырнуло прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма.
Лишь слышно было, как ревела пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила наземь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища: «Ужо-ко… ужо… У-уууу…»
Могильный снеговой курган то ровняло с землей, то вновь нагромождало гору, нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви и птицей гнала их через пространство. Все смешалось в бесконечной кутерьме.
Черкес закашлялся, замотал головой – душила вьюга. Едва переводя дыхание, он нащупал кинжал и с отчаянной решимостью сбросил шубу с непробудно спящего джигита:
– А ну! – сверкнул кинжал…
Буря корежила деревья и, как траву сухую, с шумом, с воем мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибало к земле тайгу. Все кругом осатанело. Горе слабому, горе сильному, живому, кого застигла эта убийственная ночь.
Часть вторая
I
Красный, отекший, трясущимися толстыми пальцами, из концов которых, казалось, струился винный спирт, Петр Данилыч Громов вскрыл телеграмму и сдвинул со лба на глаза очки; Марья Кирилловна смотрела на него со страхом, вся тряслась.
– Вот так раз! – упавшим голосом сказал купец; щеки его дрогнули, теряли жизнь. – Пропал ведь Прошка-то наш!.. Вот так штука!.. От губернатора стафет…
Схватившись за голову, Марья Кирилловна с криком пала на колени, сунулась лицом в плюшевое кресло и заплакала надрывным плачем.
– Да стой ты! Стой! Выслушай, что пишет-то… Может, еще жив.
И громко стал читать прыгавший в руках – такой значительный и горький клочок исписанной бумаги:
«По донесенью отдельного пристава чрез Монастырь и окрестности путники не проплывали, не проходили. К розыскам можно приступить лишь в январе, когда на озерах будет ярмарка, инородцы протопчут оленями дорогу. 13013. Вице-губернатор Нольде».
– Вот видишь? Да не вой ты, Марья! Ну тебя!.. Сказано: не проплывали, не проходили. Может, еще пройдут.
– Да где ж они? – подняла Марья Кирилловна скорбное, мокрое от слез лицо.
– Где же, где же?.. Бог его знает, где… Может, назад вернулись. Вот Груздев не сообщит ли что… Либо Метелев… На все Божья воля… А вот что же означает цифра?
Он ушел в угловую комнату, где не так были слышны стоны Марьи Кирилловны, и, шагая взад-вперед, растерянно твердил:
– «13013»… «13013»… Что бы это такое значило? Протопчут олени дорогу. «13013»… Ничего не понимаю… Ах ты, Боже мой!
Он достал из пиджачного кармана плоскую флягу с водкой, отвинтил металлический стаканчик, выпил.
– «13013»… Может, им надо столько денег – этим тунгусишкам-то? Ну, нет-с… Дальше отъезжай! Пускай за свой счет протаптывают, ежели хотят. Ах, Прошка, Прошка!.. Боже ты мой милостивый! Дурак я, дурак. С каким лысым дьяволом отпустил парня, – с поселенцем… «13013»… Надо позвать Илью.