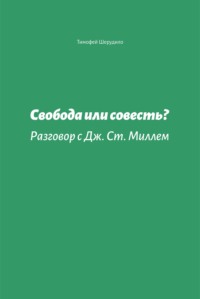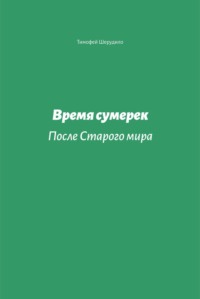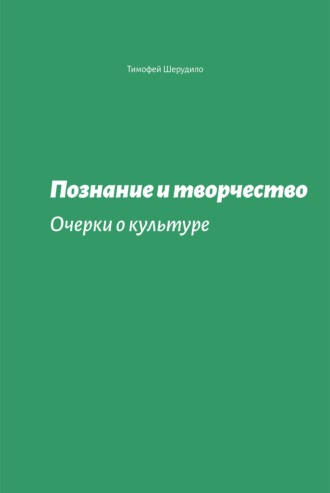 полная версия
полная версияПознание и творчество. Очерки о культуре
Однако в качестве отправной точки утилитаризм удобен. Вернее, удобна стоящая за ним идея: вместо того, чтобы заниматьсятрудным, т. е. объяснять иррациональное, духовное (и в высшем, и в бесовском смысле – ведь человек духовен и тогда, когда любит, и тогда, когда мучает) в человеке, следует полегчить себе, и всё труднообъяснимое, т. е. духовное, вывести за скобку и рассматривать исключительно простые побуждения и движения сил.
Здесь твердая почва всех новейшихоколонаучных учений. Их сила (и обаяние для несложных умов) в том, что в качестве «перводвигателя», основного людского побуждения, берется что-нибудь предельно простое, желательно – из числа смутных, но бесконечно алчных еще дочеловеческих побуждений: голод тела или голод страсти, жажда силы или успеха… В зависимости от того, как раскладываются карты, мы получаем или марксизм, или фрейдизм, или либеральное учение, или теорию позднего Ницше. Всё это самоочевидно и не раз говорилось мной прежде, но надобно повториться, чтобы не оставить пробела в мысли.
Все эти учения боятся свободы воли как черт ладана, и обходят ее при помощи неукоснительно соблюдаемого монизма (т. е. веры в единый и всемогущий источник всех человеческих дел; в силу, непреодолимо влекущую нас к исполнению ее желаний, вроде libido, классовой борьбы, естественного отбора или «эгоистичного наследственного вещества», как в новейших теориях этого рода).
В силу своей ограниченности эти мировоззрения могут казаться и смелыми, и всеобъясняющими, но одно за другим они рушатся – с тех самых пор, как гуманизм выпустил человека из церковной ограды, сказав ему: «Испытывай и пробуй! Ты если не Бог, то подобен Ему!»
…Если когда-то между домом Веры и домом Науки был неохватываемый оком пустырь, то чем дальше, тем больше, прямо на наших глазах, этот пустырь застраивается быстро растущими и так же быстро приходящими в полную ветхость зданиямиоснованных на научном методе «цельных мировоззрений». Дом Науки стоит еще нетронутый; трубы его дымят; мехи у его горнов раздуваются днем и ночью; но библиотеки его пусты, а смотрящие в небо линзы служат когда-то дорогой истине лишь отчасти, ибо у Науки появился хозяин, и этот хозяин немилостив. На уме у него гордость и могущество; на языке свобода и богатство; в руке его оружие…
А разрушенных зданий становится всё больше, и незастроенных мест между домом Веры и домом Науки скоро совсем не станет.
XXVII. Душа
Псалтирь говорит: «Что такое человек, что Ты посещаешь его, и сын человеческий, что Ты помнишь его?» Не будет преувеличением сказать, что этот вопрос, из всех, какими задавались люди, – самый важный или один из самых важных. Наше место в мире, наши надежды и наши дела основываются на том, как мы на этот вопрос отвечаем. Куда бы мы ни шли, что бы ни делали, от него невозможно освободиться.
В недавние времена, впрочем, распространилось убеждение в том, что освободиться от этого вопроса можно, попросту отказавшись от него; что его не следует и задавать; что всякое рассуждение о «смысле», «значении» и «подлинной сущности» бессмысленно, потому что все эти вещи существуют только в человеческом уме, а следовательно – призрачны. Человек науки (а это его обычная вера) отказывается от самопознания, и отказывается не по слабости своих сил и непригодности методов, что было бы еще неплохо, но потому, что не видит в нем смысла.
Как это ни грустно, ученый изучает тонкости внешнего мира, покрыв свою душу непроницаемой пеленой. От времен, когда светлые мудрецы познавали себя и вещи, мы пришли к временам, когда темные, закрытые от всякого света, не знающие и не хотящие знать себя самих умы познают мировую бездну – и находят в ней ту же тьму, какую видят внутри себя. В нашу закатную эпоху слово «ученый» означает «темный человек»; человек, не знающий самого себя. Отсюда безбожие и пессимизм людей науки, отсюда их равнодушие к поэзии – последнему отблеску правды о человеке…
Итак: что такое человек? Примемся за этот вопрос, понимая, что никакого окончательного ответа на него не может быть; что познание вещи возможно только при взгляде на нее со стороны, а выйти из самих себя мы никак не можем; что любые определения наши будут условны, потому что касаются нашего внутреннего мира – области, которую никто глазами не видел; которая дана нашим чувствам и нашей мысли только в виде сплошного, почти нераздельного потока переживаний, из которого мыслящий ум, гонимый жаждойразделять, чтобы понимать, выхватывает отдельные части.
Что видим мы, заглядывая внутрь себя самих? Гнездо непримиримых противоречий. Лучи из темной глубины; борьба сил; единство, сотрясаемое вечным внутренним раздором. Одно можно с уверенностью сказать: обстоятельства внешней жизни не имеют решающего на нас влияния. Человек не является «продуктом среды». Среда бьет и шлифует его, как волна камень, но не может внушить ему мысли, навязать чувства. «Просвещение» – не привнесение света и содержания в темную и пустую комнату, но освещение изначально присутствующей там обстановки. (Всё это, конечно, я говорю о высоко поднявшейся, сильной и самобытной, т. е. вполне свободной от внешних влияний личности. Ведь личное развитие не в том состоит, чтобы принять в себя чужие влияния, но в том, чтобы усвоив всё, что предлагает внешний мир мысли и чувству, освободиться от него и бытьвполне собой.) Эти мысли, эти чувства исходят из внутренних слоев нашей природы; из глубины, а не из внешнего мира.
В этих глубинных слоях каждая следующая эпоха видит свое. Греки и римляне в человеке находилиум; христианство – прежде всего душу; общество потребления благ замечает в нем только пол.
Античное представление о человеке как о «чистом уме», т. е. как о чем-то таком, что может быть до конца выражено при помощи логики и грамматики, утраченное после победы христианства, снова вошло в силу к XVIII столетию. Человек показался прозрачным, до конца ясным и предсказуемым; жизнь, однако, показывает, что человек больше логики и грамматики, ими не исчерпывается и до конца не выражается.
Вопрос о душе – вопрос о христианстве. Если принять, что душа – то робкое, пугливое, детское, чуткое, вещее, что глядит на мир нашими глазами, то христианство естьрелигия души. Оно ее открыло; оно все о ней и для нее. Античность знала в человеке только ум, вооруженный чувствами. Или ум, или безумие: ничего другого в человеке быть не могло. «И что станет с тем, кто возненавидит разум?», спрашивал Платон. Церковь увидела в человеке душу и развенчала ум и служащие ему чувства. Это предопределило последующие события: надолго, вплоть до восстания ума во времена Возрождения и до мятежа чувств в наши дни.
Ум, пол, душа… Даже если эти первоначала условны, они полезны и необходимы; с их помощью мы разделяем сплошной поток переживаний, о котором говорилось выше, на отдельные части, доступные наблюдению. Что же мы видим?
Ум, вероятно, самая внешняя и служебная человеческая способность. Его дело – общение с внешним миром и толкование чудес и загадок мира внутреннего (если только он способен их замечать, что бывает не всегда). Там, где ум направляет свои усилия исключительно на внешнее, мы видим науку; там, где его исключительно занимает внутреннее – религию. Ум, подобно аэростату, плывет по кромке двух миров, и оба для него недостижимы, над обоими он только наблюдает со стороны.
Значение этой служебной способности в наши дни сильно переоценивают. Целая философия (вернее, целое практическое жизнепонимание; у нашего времени нет философии) построено на представлении о человеке как о существе мыслящем и ничем, кроме мышления, не занятом. Дальше в средеумопоклонников начинается раскол: одни приписывают уму самозаконность и свободу, а другие – порабощенность инстинктом. Целые утопические мировоззрения строились на положении о полной разумности, познаваемости, прозрачности человека. Надо только освободить его (от «пут» религии, морали, общественного порядка), и он никогда и никому не причинит зла. Социалистическую утопию сменяет либеральная; но человек, сколько его ни освобождай и ни корми, никак не хочет делаться от этого выше или нравственнее, разве что воздерживается от слишком явных злодейств, боясь закона.
Раздумывая над этим, западная мысль пришла к новому заключению: человеческий ум – ненужные крылья, данные неспособному летать существу. Он не освобождает человека от власти внеразумных побуждений, но только учит их скрывать; но и скрытые, они определяют все наши поступки. С легкой руки Фрейда, главным, сильнейшим из этих скрытых побуждений считается зов пола. Даже в духовности его последователи видят улучшенную и очищенную эротику. Против этого утверждения можно сказать, что в нем толькочасть истины. Дух и Эрос действительно связаны, но в ином порядке. Эротика есть сниженная, упрощенная разновидность духовности.
Думаю, это нуждается в разъяснении. На вопрос: «Что есть эротическое?» можно ответить: «То прекрасное, которое не нравственно». Эротическое имеет очень мало общего с продолжением рода; оно – не от впечатанного в плоть «плодитесь и размножайтесь». Эротическое – плод работы духа (или, скажем так, высших способностей) над темным чувством; одушевление бесформенного, безличного; работа эстетики над материалом, никакой эстетики не знающим.
Можно сказать и так: переживания пола – преломление в атмосфере духа лучей, идущих из далекой и чуждой ему области. Переживания пола сплошь чужды уму и воспринимаются им или как требования животной природы, над которой у наших высших способностей нет власти, или как плоды труда наших высших способностей над этой первобытной природой. Ум может принимать или отвергать эти загадочные лучи из глубины; может искать их смысла; но его страсть к диалектике не находит в них пищи. Чистый, свободный разум – тот, который очистился от всяких влияний из глубины, в том числе и от переживаний пола, и ограничился миром чисел. Чем больше его достижения на этом пути, чем больше он замыкается в пределах доказуемого, тем дальше он от своей почвы и тем большей опасности он подвергается.
Итак, размышляя над переживаниями пола, мы видим, что их источник не там, где его обычно находят. Не все они «от плоти». Есть в них что-то более сильное, глубокое и первичное, нежели простое стремление к удовольствию (и спрятанному Кем-то за удовольствием продлением рода). Если я скажу, что эти переживания, взятые на достаточной глубине,духовны, это будет уж слишком сильно. Однако есть, есть в любовном ветерке нечто, идущее с глубины большей, чем та, на которой гнездится «продление рода» и «жажда удовольствия». Поэтому, кстати, писания Розанова так болезненны в той части, которая затрагивает вопросы пола. Они бездуховны и безлюбовны. Любовный ветерок – призраки, тени, кружение образов – никакого отношения к «чадородию и плодородию» или простейшей похоти не имеет. Розанов его не ощущал.
И можно сказать, что в томлении пола скрывается всё же томление духа, его тоска по бесконечному. Ведь «тот уголек, который всю жизнь разжигать можно», как говорил Свидригайлов, есть всё-таки карманная замена стремления к бесконечному и вечному. И снова вспоминая Достоевского: «Где для большинства людей красота? В Содоме!» Что такое красота? Идеал. А где идеал, там о животных побуждениях не говори; там что-то более глубокое и существенное; что-то такое, чего у животных и скотоподобных людей нет.
Есть, однако, в человеке сила, которая с улыбкой смотрит на ум; с удивлением – на игры пола; с состраданием – на голод тела; которая не умеет рассуждать, но понимает без рассуждения; эта сила – загадочная душа, знакомая каждому от рождения и до смерти тихая незнакомка. (Впрочем, не каждому. Наш ум не только силен, но и громок; у некоторых он заглушает своими речами тихий лепет души.)
Что же это за «душа», чем она отличается от уже найденных нами в человеке «ума» и «пола»? В первую очередь можно сказать, что это сила понимания без рассуждений. Понимание без слов есть способность души; понимание путем доказательств – способность разума. Душа вне диалектики; истины сердца усматриваются, а не доказываются.
Впрочем, еще неизвестно, предназначен ли наш ум для того, чтобы строить, или для того, чтобы слушать – в первую очередь, голос души. Все достижения строящей мысли, за исключением геометрии и родственных ей наук, не только не вечны, но слишком уж недолговременны. Что осталось от эллинов, кроме сократовского искусства сомневаться? Что осталось от пышных зданий европейской философии? Все эти богато украшенные ворота к истине давно разрушены. Кроме геометрии только поэзия и мудрость живут долго – потому что ничего не стремятся построить и больше молчат, чем говорят.
Настоящий ум – тот, который не представляет собой склада познаний, – есть в первую очередь умение слушать свою душу.
Чем же отличается ум от «души»? Чтобы лучше понять разницу между ними, спросим себя: о чемне может судить ум, а о чем – душа? Ум не может судить о прекрасном; душа не может судить о разумном, другими словами – о том, что может быть подтверждено или опровергнуто путем доказательств. Душа, как я уже сказал, вне диалектики. В ее царстве истины не доказываются, а усматриваются. Чуткость, внимание и сосредоточенность для души важнее, чем гибкость и сила, столь нужные уму.
Душе принадлежат нравственные суждения; разум может принимать или не принимать их к исполнению, но сам, если так можно сказать, законодательной власти в области нравственного не имеет. Но это не значит, что мышление вне- или безнравственно. Мысль знает свою, умственную совесть. Мыслить хорошо (но не «мыслить о хорошем») – нравственно; дурное мышление, не соблюдающее правил разыскания истины, – предосудительно. Можно, конечно, сказать и так: ум сильный есть ум нравственный, то есть добровольно и охотно следующий велениям интеллектуальной совести.
Раз уж мы снова заговорили об уме, нужно сказать, что при внимательном наблюдении эта способность, на первый взгляд единая, распадается на две самостоятельные способности:усматривающую и рассуждающую. Первая, подобно лучу света в темноте, освещает части существущей независимо от нее картины; о таком уме говорят обычно: «глубокий». Вторая – сила построения и доказательства, которая никакой связи с действительностью, строго говоря, не имеет, и может быть применена ради утверждения как истины, так и лжи. Об этом уме говорят обычно: «острый». Умственная жизнь плодотворна там, где острота ума подкреплена глубиной. Глубина без остроты – поэзия; острота без глубины – софистика.
Итак, рассмотрев человека, как он открывается пристальному взгляду, мы нашли в нем разум, нашли страсть, нашли таинственную глубину, лучи которой проходят через туманные слои страсти и через ясную синеву разума – и так достигают поверхности, той стороны человека, которая обращена к миру и которая называется «личностью». Наш внутренний мир многослоен, и не все его пласты равно доступны взгляду. Каждое время, заглядывая в человеческую глубину, видит в ней свое. Увидя разум, восклицает: «здесь человек!», но человек не здесь. Увидя страсть, восклицает: «здесь человек!», но человек и не здесь.
Дело, по-видимому, в том, что человек – не ум и не страсть, но тот, кто пользуется умом и играет страстью, но не растворяется в них без остатка. Что же он такое? Чистая сила; возможность всего; скованная свобода; постоянное непостоянство; нечто, живущее по ту сторону слов и словами с трудом выражаемое… «Это поэзия», скажете вы. Но поэзия и существует для того, чтобы выражать невыражаемое.
Как же назвать эту чистую силу?
«Горит звезда, дрожит эфир,
Таится ночь в пролете арок.
Как не любить мне этот мир —
Невероятный Твой подарок?
Ты дал мне пять неверных чувств,
Ты дал мне время и пространство,
Играет в мареве искусств
Моей души непостоянство», —
говорит Ходасевич. Наверное, он прав, и эту силу, для которой мир – не повелитель, но материал и поприще для игры, нужно называть именно душой. Она глубже всего, что в нас; она старше всего, что в нас. Она обитает глубже ума – поверхностной, но необходимой силы; глубже темной области пола… Там, в дальней глубине – мерцает сокровенным, неотраженным светом тайное ядро, сердцевина человека, наше внутреннее светило:душа.
XXVIII. О догматизме науки
Мысль о «догматизме» связывается у современного человека с Церковью и всем церковным; однако наука в новейшие времена выработала свое устойчиво-догматическое мировоззрение, основанное, как всякое мировоззрение такого рода, на положениях, изъятых из свободного обсуждения. Этот догматизм не мешает, однако, ссылаться на «скептическое, критическое мышление» как основу, будто бы, всякой научной деятельности.
В чем состоят научные «догматы» или, скорее, один нераздельный догмат? Догматическая наука, во-первых, верит в то, что из т. н. «объективных фактов» (заметьте эти слова) самостоятельно, совершенно независимо от нашей воли вырастают определенные «объективные» или «научные» истины; во-вторых, в то, что, изучая факты, она познаёт «объективную действительность» в ее чистом, очищенном от прикрас воображения, т. е. строго разумном виде; и в-третьих, верит она в то, что «изучение фактов» приводит нас к т. н. «истинной картине мира» – простого, разумного, насквозь познаваемого, не имеющего в себе места для тайны.
Как мне не раз уже доводилось говорить, эти утверждения насквозь наивны, а наивны потому, что делаются людьми, изощряющими свой разум для поиска фактов, но не желающими знать, чтоправильное мышление, которому учит философия, должно предшествовать всякому поиску, а тем более – построению цельного мировоззрения. Более того, это философски обоснованное мышление может даже навести нас на ту мысль, что для цельного мировоззрения у нас нет ни сил, ни данных. Впрочем, я забегаю вперед.
Кант давно уже сказал нам, чего можно ждать от мышления, и чего от него ждать не следует. Несмотря на это, я хотел бы разобрать доводы современных разумопоклонников и показать, что их ожидания и обещания расходятся с действительностью.
Начнем с первого утверждения: о силе «объективных фактов», из которых сами собой, при обработке реактивами «критического мышления», вырабатываются «научные истины».
Говоря об «объективных фактах», надо сказать, что их значение сильно преувеличено. Общаемся мы не с какой-то «объективной действительностью, данной нам в ощущениях», а с нераздельным потоком переживаний (опытов), который затем расчленяется на отдельные смыслы (понятия) в зависимости от того, какие представления о поставляющем эти переживания мире живутв нашем уме.
Факт есть событиеосознанной встречи ума с непостижимой действительностью. То, чего ум не замечает и относительно чего не делает заключений, не пополняет ряды «фактов», оставаясь простым происшествием. Говоря сравнительно: если представить себе ум как сферу, то «факты» – те столкновения ума с событиями внешнего мира, которые оставили следы на этой поверхности этой сферы. В любом «факте» истолкование занимает столько же места, сколько вызвавшее его событие, если не больше. Не будь этих истолкований, «факты» барабанили бы по поверхности нашего ума, как дождь по крыше, не оставляя внутри этого ума никаких следов.
Фактопоклонство наших дней ложно еще и потому, что «факты» как таковые не облагораживают и не воспитывают ума, сколько бы ни пытались это утверждать. Ум вообще состоит не в том, чтобыобладать фактами, а в том, чтобы их взвешивать. Из этого следует парадоксальный вывод: возможен ум, действующий в условиях, близких к полному незнанию (отсутствию фактов); возможно и почти полное всезнание, сопряженное с слабостью судящей силы, если не отсутствием ума. Разумеется, эти крайности воображаемые, но в общем именно так противостоят друг другу наука и мудрость. Связывать силу ума с тем, насколько большие полчища фактов он может вывести под свое знамя – ошибочно.
Но главное даже не в этом. Главное в том, что, ссылаясь на некоторые «независимые от нашего ума факты», подверждающие излюбленную теорию, ученый скрытно, под полой, проносит в лабораторию плоды своего умственного труда, догадки, заключения, а то и, страшно сказать,убеждения – весь пестрый сор, из которого состоит т. н. «солидное фактическое обоснование». Как и почему это происходит – в подробностях будет сказано ниже.
Перейдем к другому притязанию догматической науки: к «познанию объективной действительности» на пути накопления «знаний». Но так ли это? Может ли наука в самом деле копить «знания», как будто у нее есть какая-то лазейка, по которой мысль может проникнуть во внешний мир?13 К сожалению, такой лазейки нет, и когда мы говорим о знаниях, мы имеем в виду согласующиеся с наличным опытом представления. Говоря так, я не умаляю подвиг науки, но указываю его истинное значение.
Истинный подвиг науки состоит не в «познании внешнего мира», а в построении в уме человеческом такой картины вещей, которая отличалась бы известной степенью широты объединяемых ей явлений, и при том достаточной внутренней непротиворечивостью. Познание есть уложение фактов (т. е. наших представлений) во взаимно непротиворечивую цепь, но эта цепь существует в первую очередь в уме ученого; ее связь с огромным и загадочным миром, где дымится туман неизвестности – обманчива и неясна.
Кстати нужно сказать, что именно эти требования широты и непротиворечивости заставляют науку исключить из рассмотрения всё темное, таинственное и непредсказуемое, одним словом,тайну. В итоге создается мировоззрение цельное, твердое, последовательное, основанное на вере в то, что об одном предмете не может быть более одной истины. Эта вера – звено, которым держится вся цепь. В пограничной области между наукой и жизнью эта вера неизбежно приводит к появлению т. н. «единственно верных мировоззрений», которые отличаются от науки как таковой полным безразличием к опыту, к накоплению фактов, и окостеневают еще быстрее, чем довольно-таки догматические, но всё же научные взгляды, их породившие.
Пришло время собрать вместе и дополнить сказанное выше. Общим местом научной догматики является противопоставление «критического разума» – воображению, всякому созидательному мышлению. На разум смотрят как на острый нож, средство уточнения, если не разрушения.Критическая способность разума считается в наши дни единственной его способностью. Однако это представление обедняет действительность. Дело разума – не только критика, анализ, разрушение, но и созидание миров. Об этом совершенно не принято думать; картину мира, к которой подходит ученый со своим скальпелем, мы принимаем, как будто она досталась нам даром; на самом деле эта картина создана умственными усилиями поколений.
Однако надо не побояться сказать, что «объективная реальность», будто бы данная нашему чувству, естьмиф.
Стоит только задуматься, и мы увидим: вся наша жизнь возможна потому только, что между нами и мраком случайных, страшных и загадочных событий стоит раскрашенный холст, на котором нарисован закрывающий нас от бездны светлый и ясныйосмысленный мир. Именно этот вытканный и раскрашенный нашим разумом холст принято называть «объективной действительностью», хотя как на самом деле он – только самая отдаленная, почти самостоятельно существующая часть нашего ума. Этот холст или, вернее, крепкая стена, ограждающая нас от безумия (во всяком случае, от жизни за пределами разума и его защитных чар) была прежде науки; ее построил разум в те времена, когда никто и не слышал о «критическом мышлении»…
Умопоклонники новейших времен противопоставляют ум и воображение; ум и иллюзии (к которым относят и религиозную веру). Однако это противопоставление неглубоко. На самом деле, ум естьсила воображения, связанного причинностью (говоря другими словами: требованием взаимной непротиворечивости умственных построений; об истинной «причинности» мы знаем не так уж много). Несмотря на это, из всех сторон умственной деятельности прославлена только критическая, разрушительная; всякий умственный труд, не имеющий целью разрушения, объявлен неплодотворным… что привело к неизбежным следствиям: построяющая сила мысли иссякла, и когда-то полноводная река науки разбилась на ручейки, образуемые собиранием мелких фактов – при неспособности к крупным обобщениям.
В разуме стали видеть исключительно критическую (разрушающую) способность – и разум за это отплатил.
В действительности «критический разум» отличается от детского ума или от разума дикаря только степенью достоверности (которую можно было бы назвать и иначе:степенью допустимой недостоверности), проверяемости причинных связей. Разум «высшего порядка» предпочитает простейшие, легче всего поддающиеся проверке (желательно – in vitro) связи; ум философский и тем более религиозный имеет дело с труднопроверяемыми зависимостями; однако библейские истины не перестают быть истинами оттого, что проверяются не в лаборатории, а на пространстве человеческой жизни. Только детский ум, наиболее склонный к волшебству, довольствуется суждениями вроде следующего: «Если сказать „Раз, два, три!“ и трижды повернуться на левой ноге, придет Бука!» Тут связь событий не просто труднопроверяема, она – по меньшей мере, на первый взгляд, то есть до нашей встречи с Букой, – отсутствует. Но во всех рассмотренных случаях ум повелевает не чем иным, как воображением; разница в готовности ума принимать его приношения.