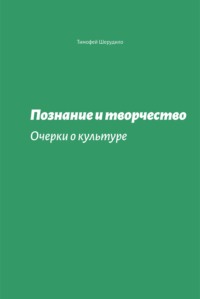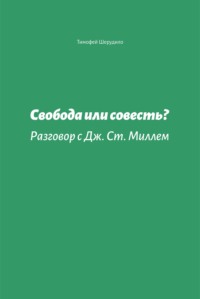Время сумерек. После Старого мира
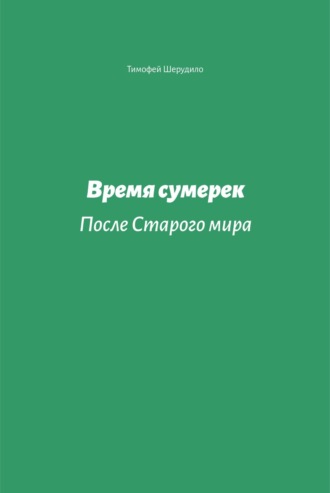 полная версия
полная версияВремя сумерек. После Старого мира
Жанр: историческая научная и учебная литератураистория Россиикниги по философиирусская философиясовременная философиярелигиозно-философская публицистика
Язык: Русский
Год издания: 2021
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля