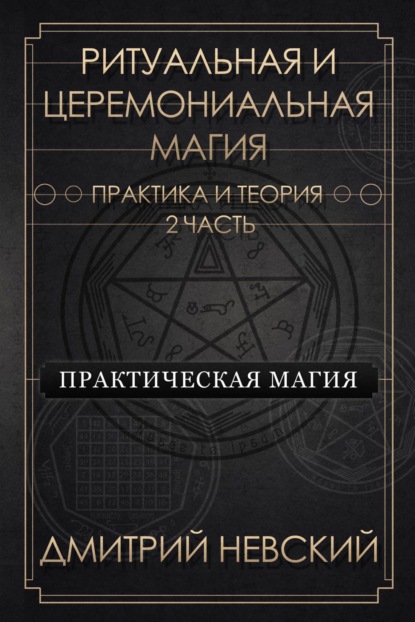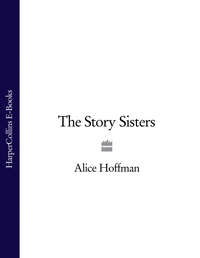Полная версия
Практическая магия

Элис Хоффман
Практическая магия
Alice Hoffman
PRACTICAL MAGIC
Copyright © 1995 by Alice Hoffman
© М. Кан, перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
***Элис Хоффман – одна из самых выдающихся американских романисток, автор более тридцати бестселлеров, которые входят в списки популярных книг года: The New-York Times, Entertainment Weekly, The LosAngeles Times, Library Journal и People Magazine. Произведения Элис Хоффман переведены более чем на двадцать языков.
Роман «Практическая магия» – один из самых известных у писательницы, был экранизирован. В главных ролях снялись Сандра Баллок и Николь Кидман.
***«Романы Элис Хоффман обладают невероятной силой. Каждое предложение – будто приворотное заклинание, которое навсегда влюбляет в произведение».
Kirkus Reviews
«Красивая, динамичная сказка о силе любви и невероятной страсти, на которую способно сердце».
Denver Post
«Ведьмы и призраки, заклинания и зелья сплетаются в атмосферную сказку о семейных узах и магической силе любви».
The Miami Herald
«Восхитительный роман о колдовстве и любви в мире, где пахнет лимонной вербеной и волшебством».
Cosmopolitan
«…один из лучших романов Хоффман. Будто волшебной палочкой она касается совершенно ординарных вещей, наполняя их магией».
Newsweek
«Хоффман потрясающе переплетает реальное и магическое».
The Orlando Sentinel
***Посвящается Либби Ходжес
и Карол де Найт
Средства от любой из бедЕсть на свете или нет.Если есть – ищи, не стой;Если нет – махни рукой.Из «Матушки гусыни»Суеверие
Двести с лишним лет, что бы ни приключилось в городе, вину валили на женщин семейства Оуэнс. Весна ли выдастся дождливая, соски ли закровят у коровы прямо в подойник, падет ли жеребенок от колик или ребеночек родится с багровой отметиной на щеке – все думали, что хоть каким-то боком в этом замешаны женщины с улицы Магнолий. Не важно, какова была напасть – молния, саранча или гиблый омут в реке. Не важно, что ей могло быть объяснение – логическое, научное, или попросту не повезло человеку. Чуть что пойдет не так, не заладится – и люди уже тычут пальцем, указывая на виноватых. А там недолго было внушить себе, что с наступлением темноты проходить мимо дома Оуэнсов небезопасно, и только самые неразумные из соседей осмеливались заглянуть за кованую ограду, черной змеей обвивающую двор.
В доме не было ни часов, ни зеркал, зато висело по три замка на каждой двери. Под половицами и в стенах жили мыши, нередко обнаруживаясь в ящиках комода, где они грызли вышитые скатерти и кружевные оторочки полотняных салфеток. На подоконные лавки и каминные доски пошло дерево пятнадцати различных пород, в том числе светлый дуб, и серебристый ясень, и особая душистая вишня, от которой даже глухой зимой, когда деревья за окном торчат голыми черными палками, исходил дух спелых ягод. Сколько бы ни накопилось в доме пыли, к дереву она не приставала. Приглядишься – и поймаешь свое отражение прямо в деревянной панели или в перилах, за которые держишься, взбегая по лестнице. Во всех комнатах было сумрачно, даже в полдень, и прохладно, когда снаружи держался июльский зной. Коли отважишься ступить на крыльцо, сплошь завитое буйным плющом, ничегошеньки не увидишь в окно, хоть все глаза прогляди. То же самое – если смотреть на улицу изнутри: зеленоватые от старости стекла были такой толщины, что все по ту сторону, включая небо и деревья, виделось словно бы во сне.
Девочки, жившие на чердаке, были сестрами, с разницей в возрасте всего лишь в тринадцать месяцев. Никто и никогда не отправлял их спать раньше полуночи и не напоминал, что надо почистить зубы. Никого не волновало, если они ходили в неглаженых платьях или плевались на улице. Все время, пока эти девочки росли, им позволяли ложиться в кровать, не снимая обуви, и рисовать углем на стенках спальни смешные рожицы. Им разрешалось, если уж так приспичило, пить за завтраком холодный лимонад, а вместо обеда наедаться зефиром. Разрешалось залезть на крышу, усесться там, оседлав шиферный гребень, и, запрокинувшись как можно дальше назад, высматривать появление на небе первой звезды. Мартовские ветреные ночи, сырые августовские вечера просиживали они там, шушукаясь, гадая, верить ли, что хотя бы малюсенькое загаданное желание иногда и вправду сбывается.
Воспитывались девочки у теток, которые, возможно, и рады были бы, да не могли не приютить их у себя. В конце концов дети остались сиротами, когда их беспечные родители, поглощенные любовью, не учуяли, как пошел дым от стен лесного домика, куда они сбежали проводить второй медовый месяц, бросив детей на приходящую няню. Неудивительно, что во время грозы сестры всегда спали в одной постели; обе ужасно боялись грома и при первых же его раскатах переходили на испуганный шепот. Когда наконец они все-таки засыпали, крепко обнявшись, им часто снились одни и те же сны. Бывали случаи, когда одна могла договорить фразу, начатую другой, и, уж конечно, каждая могла с закрытыми глазами угадать, что нынче хочется другой на сладкое.
А между тем по внешности и по характеру сестры были, несмотря на свою близость, совершенно разные. Кроме красивых серых глаз, которыми славились женщины Оуэнсов, ничто не указывало, что они состоят в родстве. Джиллиан была светленькая и белокурая, Салли же смолью волос не уступала черным, дурно воспитанным кошкам, которым не возбранялось шнырять по всему саду и цеплять когтями шторы в гостиной. Джиллиан была лентяйка и любила поспать до полудня. Она копила карманные деньги и нанимала Салли делать за нее уроки по математике и гладить ее выходные платья. Пила бутылками шоколадную шипучку и, растянувшись на прохладном полу в полуподвале, преспокойно сосала вязкие батончики «Хершис», наблюдая, как Салли вытирает пыль с металлических стеллажей, на которых у тетушек хранились домашние варенья да соленья. Больше всего на свете Джиллиан обожала валяться на бархатном подоконном диванчике под узорными портьерами, на лестничной площадке, где пылился в углу портрет Марии Оуэнс, которая и построила давным-давно этот самый дом. Здесь можно было летом застать ее в дневное время в такой истоме и неге, что моль, приняв ее за диванную подушку, садилась и проедала дырочки в ее футболке и джинсах.
Салли, старше сестры на триста девяносто семь дней, в той же мере отличалась добросовестностью, в какой Джиллиан – праздностью. Она отказывалась верить в то, чего нельзя доказать с помощью фактов. Когда Джиллиан показывала на падающую звезду, Салли не забывала отметить, что это всего-то-навсего летит на землю камень, раскаленный от своего движения сквозь толщу атмосферы. Салли была с самого дня рождения человеком ответственным, ей претили беспорядок и неустройство быта, какие наблюдались от чердака и до подвала в старом доме у тетушек на улице Магнолий. Это Салли, с тех пор как перешла в третий класс, а Джиллиан – во второй, принялась стряпать диетические обеды – мясной рулет, свежую стручковую фасоль, перловый суп, – следуя рецептам из книги «Кулинарные утехи», которую тайком от всех завела в доме. Каждое утро она собирала два школьных завтрака: бутерброд с индюшкой и помидорами, морковные палочки, овсяное печенье – и все это Джиллиан, едва только Салли приводила ее в класс, немедленно выбрасывала в мусорный бачок, предпочитая сэндвичи с говядиной и сыром и шоколадные пирожные, которые продавались в кафетерии, а гривенники и четвертаки на покупку того, что ей по вкусу, не гнушалась таскать из карманов теткиных пальто.
«Заря» и «Ночка» – называли их тетушки, и, хотя девочки не смеялись этой невинной шутке, не находя в ней ничего забавного, обе они признавали, что она справедлива, и раньше, чем это бывает у других сестер, усвоили истину: луна всегда завидует дневной жаре, а солнце вечно тоскует по тому, что скрыто в темноте. Обе умели хранить секреты друг друга, клялись, что разрази их гром, если проговорятся, даже когда вся тайна состояла в том, что кто-то дернул кошку за хвост или нарвал без разрешения в саду букетик наперстянки.
Сестры могли бы враждовать из-за непохожести характеров, могли озлобиться и стать чужими, будь у них возможность подружиться с кем-либо еще, однако другие дети в городе их чурались. Никто из мальчиков и девочек не осмеливался с ними поиграть, а очень многие при приближении Салли и Джиллиан торопились скрестить средний палец с указательным, как будто это могло послужить им защитой. Самые дерзкие и отчаянные мальчишки пристраивались к сестрам по дороге в школу и шагали позади, немного приотстав, чтобы чуть что успеть пуститься наутек. Еще они любили кидаться в девочек зимними твердыми яблоками и камешками, но даже самым ловким, слывущим звездами в своей спортивной команде, не удавалось хоть разок попасть в цель. Камни и яблоки неизменно падали у ног сестер Оуэнс.
Каждый день был полон для Салли с Джиллиан мелких унижений. Никто в классе не брал в руки карандаш или цветной мелок, если им перед этим пользовалась та или другая из сестер. Никто не садился рядом с ними в кафетерии или на школьных собраниях, а были девочки, которые просто визжали как резаные, когда, забежав в уборную сходить по-маленькому, посекретничать с подружками или причесаться, вдруг обнаруживали там одну из них. Салли и Джиллиан никогда не выбирали для участия в спортивных играх на уроках физкультуры, хотя никто в городе не бегал быстрее Джиллиан и не умел так отбить бейсбольный мяч, чтобы он перелетел через школьное здание и приземлился на соседней улице Эндикотт. Их не приглашали на вечеринки и на слеты девочек-скаутов, не звали поиграть в классики или влезть на дерево.
– Плевать на них, – говорила Джиллиан, заносчиво задирая точеный носик, когда они с Салли под волчьи завывания мальчишек шли по школьному коридору на урок музыки или рисования. – Пускай пакостят. Погоди, вот увидишь, придет время, сами будут набиваться к нам в гости, и тогда настанет наша очередь куражиться.
Случалось, что доведенная до белого каления Джиллиан внезапно оборачивалась, гаркая: «Бу-у!» – после чего кто-нибудь из ребят обязательно мочил штаны, переживая куда большее унижение, чем те, что выпадали ей. Но у Салли давать отпор не хватало духу. Она одевалась во все темное и старалась оставаться неприметной. Прикидывалась туповатой и никогда не тянула руку на уроках. Скрывала свои истинные качества так успешно, что понемногу сама разочаровалась в собственных способностях. Сделалась тихонькой, словно мышка. Если и открывала рот на уроке, то лишь затем, чтобы пропищать неправильный ответ, а со временем взяла себе за правило садиться в самый задний ряд и вообще не подавать голоса в классе.
И все равно от нее не отставали. В четвертом классе к ней в школьный шкафчик поставили открытый террариум с муравьями, и не одну неделю потом Салли натыкалась на раздавленных муравьев между страниц своих учебников. В пятом ей сговорились подложить в парту дохлого мышонка. Самый бессердечный из заговорщиков прилепил к нему на спинку ярлык. «Сали», – было выведено на нем корявыми буквами, но эта ошибка в правописании не вызвала у девочки ни малейшего злорадства. Она расплакалась над свернувшимся в клубочек тельцем с крохотными усиками и игрушечными лапками, но, когда учительница спросила, в чем дело, лишь повела плечами, точно утратила дар речи.
Как-то в погожий апрельский день, когда Салли училась в шестом классе, за нею в школу увязались все тетушкины кошки. После этого даже учителя избегали встречаться с нею в безлюдном коридоре и тотчас находили предлог свернуть в другую сторону. Убыстряя шаг, учителя оглядывались на нее с непонятной усмешкой – возможно, из опасения, как бы чего не вышло. У черных кошек есть дар действовать подобным образом на некоторых людей, вызывая у них дрожь в коленках, мурашки и воспоминания о ненастных и грешных ночах. Впрочем, кошки, которые жили у тетушек, были не особенно страшные. Они любили дремать на кушетках и все носили птичьи имена. Был среди них Кардинал, была Сорока, был Зяблик и была Гусыня. Был бестолковый котенок Голубок и склочный кот по кличке Ворон, который злобно шипел на остальных и держал их в страхе божьем. Трудно поверить, чтобы подобное сборище распущенных тварей всерьез вынашивало план опозорить Салли, но получилось именно так – хотя, быть может, увязались они в тот день за нею по той простой причине, что она сделала на ланч бутерброд с копченой рыбкой, всего один на сей раз, так как Джиллиан, сославшись на больное горло, осталась дома в постели, где наверняка рассчитывала проваляться до конца недели, заедая сладостями чтение журналов и не тревожась о том, что от шоколада на простыне остаются пятна, поскольку забота о стирке белья лежала на плечах Салли.
Салли в то утро и знать не знала, покуда не уселась за парту, что ее провожают кошки. Кое-кто из одноклассников засмеялся, но две девчонки вскочили на батарею и подняли визг. Можно было подумать, свору чертей напустили к ним в класс, хотя на самом-то деле Салли привела за собою в школу обыкновенную блохастую живность. Черные как ночь, с истошными воплями, кошки прошествовали мимо столов и скамеек. Салли попробовала их шугануть, но кошки лишь подступили ближе. Они прохаживались перед ней взад-вперед, хвосты торчком, так мерзко мяукая, что впору молоку было свернуться в чашке.
– Брысь ты! – шепнула Салли, когда кот Ворон прыгнул к ней на колени и запустил когти в ее любимое голубое платье. – Пшел отсюда!
Но даже когда вошла мисс Маллинз и, постучав по столу линейкой, строгим голосом предложила Салли немедленно – tout de suite – очистить помещение от кошек, если не хочет остаться после уроков, противные зверюги уперлись и ни в какую не захотели уходить. Класс охватила паника, самые впечатлительные зашушукались о ведьмах. За ведьмами, как известно, часто таскается следом нечистая сила в животном обличье, исполняя злую волю. И чем нечистой силы больше, тем гаже ведьмины повеленья, а тут этой пакости набилась целая орава. Кому-то из ребят стало плохо, кто-то до конца жизни с тех пор не переносил кошек. Послали за учителем физкультуры, но, как он ни старался, размахивая метлой, кошки не уходили.
Один мальчишка в заднем ряду, который нынче как раз стянул у отца коробку спичек, воспользовался случаем посреди всеобщей суматохи и поджег Ворону хвост. По классу, опережая вопль кота, мгновенно распространился запах паленой шерсти. Салли, не размышляя, кинулась к Ворону и, упав на колени, сбила огонь подолом любимого платья.
– Хоть бы с тобой самим стряслось что-нибудь! – крикнула она мальчишке, который поджег Ворона. А после поднялась, лицо и платье в саже, баюкая кота на руках, как ребенка. – Увидел бы тогда, каково это! Узнал бы, что чувствуют другие!
В этот самый миг наверху прямо над ними класс затопотал ногами – от радости, так как обнаружилось, что все диктанты изжеваны учительским английским бульдогом, – и с потолка на голову дрянному мальчишке свалилась звукопоглощающая плитка. Мальчишка, с помертвелой под веснушками физиономией, как подкошенный рухнул на пол.
– Это она, – вырвалось у кого-то из детей, а те, кто промолчал, разинули рты и вытаращили глаза.
Салли с Вороном на руках выскочила из класса, и кошки последовали за ней. Всю дорогу домой по улице Эндикотт и по улице Пибоди они путались у нее под ногами, мешая пройти в парадную дверь и подняться по лестнице, и до самого вечера скреблись к ней, даже после того, как она заперлась у себя.
Салли проплакала целых два часа. Дело в том, что она любила этих кошек. Украдкой выставляла им блюдца с молоком, носила их в плетеной сумке на улицу Эндикотт к ветеринару, когда они увечили друг друга в драке и у них воспалялись раны. Души не чаяла в этих чертовых кошках, хотя, когда, готовая провалиться сквозь землю, сидела в классе, рада была бы, если б у нее на глазах их утопили поочередно в ведре с ледяной водой или же расстреляли из ружья. И пусть она, как только справилась с собой, вышла оказать помощь Ворону, промыть и забинтовать ему хвост, все равно знала, что в душе предала его. С того дня Салли сильно упала в собственных глазах. Она уже не просила тетушек побаловать ее чем-нибудь или хотя бы наградить за то, что заслужила. Ей не нашелся бы более суровый и придирчивый судья; Салли изобличила в себе изъян, – нехватку сострадания и стойкости, и наказанием себе с той минуты назначила самоотречение.
После этого случая с кошками чураться сестер Оуэнс меньше не стали, а бояться стали больше. Теперь девчонки в школе не изводили их, а торопились отойти прочь, опустив глаза, когда Салли с Джиллиан проходили мимо. От парты к парте расползались в записочках слухи о колдовстве, в уборных и коридорах шепотом приводились обвинения. Ребята, которые держали дома черных кошек, клянчили им у родителей замену: колли, или хомячка, или хотя бы золотую рыбку. Потерпела ли поражение футбольная команда, взорвалась ли печь для обжига керамики в художественной мастерской – все разом косились в сторону сестер Оуэнс. Самые отчаянные озорники не решались запустить в них мячом на переменке или пульнуть шариком из жеваной бумаги, никто не швырялся в них больше камешками или яблоками. Среди девочек были такие, кто – на скаутских собраниях, в гостях с ночевкой – клялся, что при желании Салли и Джиллиан свободно могут погрузить тебя в гипноз и заставить лаять по-собачьи или кинуться с крутого обрыва. Могут одним-единственным словом или кивком напустить на тебя свои чары. А если любую из сестер не на шутку разозлить, ей стоит лишь прочесть в обратном порядке таблицу умножения – и тебе каюк. Глаза вытекут из глазниц. Все кости размягчатся в твоем теле. Подадут тебя назавтра под соусом в школьном кафетерии, и ни одна живая душа о том не догадается.
Меж тем, какие бы там слухи ни распускала, перешептываясь, городская детвора, но факт оставался фактом: почти у каждого мать хотя бы раз, да наведывалась к тетушкам Оуэнс. То вдруг потребуется перечная настойка от капризного желудка, то цветок ваточник от нервов, хотя любая женщина в городе знала, от какого недуга на самом деле врачуют тетушки: специальностью их была любовь. Тетушек не приглашали на ужин или на сбор средств в фонд городской библиотеки, но если женщина повздорила со своим возлюбленным, если она обнаружила, что беременна, и не от того, за кем замужем, если узнала, что муж изменяет ей, как последняя скотина, – тогда, сразу как стемнеет, она оказывалась у черного хода дома Оуэнсов, в тот час, когда сумерки скрывают твое лицо и никому не разглядеть, кто там стоит под глицинией, что растет здесь с незапамятных времен, беспорядочно переплетаясь над дверным косяком.
Не важно, что этой женщиной могла оказаться учительница пятых классов начальной школы, или пасторская жена, или, тоже возможно, бессменная подружка стоматолога с улицы Пибоди. Не важно, что если приблизиться к дому Оуэнсов с восточной стороны, то с неба, божились люди, камнем падают черные птицы, готовые выклевать тебе глаза. Желание имеет свойство наделять человека необъяснимой отвагой. Оно, по мнению тетушек, способно подкрасться тихой сапой к нормальной взрослой женщине и превратить ее из здравомыслящего существа в нечто безмозглое, сродни блохе, от которой нипочем не отвязаться незадачливому псу. Та, у которой хватало духу явиться к черному крыльцу, не дрогнув, глотала мятный чай, в состав которого входило такое, что язык не повернется назвать, но который наверняка должен был вызвать ночью кровотечение. Она с готовностью подставляла тетушке средний палец левой руки для укола серебряной иглой, раз таково было необходимое условие того, что к ней вернется ее ненаглядный.
При появлении женщины на мощенной голубоватым песчаником дорожке тетушки всполошились, точно клуши. Когда человек дошел до крайности, это учуешь за версту. Женщина, влюбленная без памяти, за средство обеспечить себе взаимность не задумается отдать камею, что из поколения в поколение хранилась у нее в семье. А та, которую предали, отдаст и больше. Но всех отчаяннее были женщины, которые позарились на чужого мужа. Эти ради любви были готовы на все. В угаре страсти их корежило, точно дерево в бурю, и все условности и хорошие манеры летели к чертям. Когда на дорожке к дому показывалась такая, тетушки тут же отправляли девочек на чердак, даже если это происходило в декабре, когда на дворе холодно и темнеет уже к половине пятого.
Девочки в эти хмурые вечера никогда не спорили. Взявшись за руки, они смирно шли наверх. Говорили теткам «спокойной ночи» с площадки, где пылился старинный портрет Марии Оуэнс, потом расходились по своим комнатам и, наспех накинув ночные рубашки, прямиком устремлялись к черной лестнице и спускались на цыпочках вниз, откуда, припав ухом к двери, можно было подслушать все до последнего слова. Иногда, если вечер выдался особенно темный, Джиллиан, расхрабрясь, пинком приоткрывала дверь; а Салли, из страха, как бы дверь не скрипнула, выдав их присутствие, не осмеливалась ее закрыть.
– Глупости все это! – шепотом возмущалась Салли. – Полная чепуха!
– Что ж тогда не уходишь? – живо отзывалась Джиллиан. – Ну давай, иди спать, – подбивала она, твердо зная, что сестра не рискнет пропустить то, что будет дальше.
С определенной точки на черной лестнице им видна была старая чугунная плита, стол и лохматый половик, по которому часто расхаживали взад-вперед тетушкины клиентки. Видно было, как человека с головы до пят, не говоря уже о том, что расположено в серединке, может скрутить в бараний рог любовь. Вот откуда Салли и Джиллиан стало известно такое, о чем дети в их возрасте обычно не знают: что, например, всегда имеет смысл собирать обрезки ногтей, служившие прежде живою тканью любимого человека, – на тот случай, если ему взбредет в голову сходить прогуляться на сторону; что женщина от любовного томления может измаяться до рвоты над раковиной на кухне, до кровавых слез неистовых рыданий.
Вечерами, когда на небо выплывала оранжевая луна, a на кухне заливалась слезами очередная посетительница, Салли с Джиллиан, сцепясь мизинцами, давали клятву никогда не попадать во власть страстей.
– Тьфу, – отплевывались шепотом девочки, когда клиентка их тетушек ударялась в слезы или, задрав кофточку, показывала свежие порезы на том месте, где нацарапала бритвой на коже дорогое имя.
– Нет уж, мы – никогда! – зарекались девочки, крепче сплетая мизинцы.
В ту зиму, когда Салли минуло двенадцать, а Джиллиан вплотную подошла к одиннадцати, они узнали, что подчас в любовных делах всего опаснее – когда твое заветное желание сбывается. Той зимой к тетушкам пришла молодая женщина, работающая в магазине аптекарских и бытовых товаров. Уже не первый день тогда все ниже опускалась на дворе температура. Мотор тетушкиного «форда» кашлял и не заводился, покрышки примерзали к бетонному полу гаража. Мыши, пригревшись в стенках спален, носа не высовывали наружу, лебеди в парке щипали обледенелые водоросли и все равно вконец оголодали. Такие стояли холода, так беспощадно багровело небо, что девочек от одного взгляда наверх пробирали мурашки.
Клиентка, которая пришла в тот темный вечер, не могла похвастаться красотой, зато она отличалась добрым нравом. На праздники развозила угощение по домам, где жили старики, пела ангельским голосом в церковном хоре и, когда дети заказывали у стойки коктейль из мороженого с кока-колой, не забывала дать его каждому с двойным сиропом. Но когда эта тихая, невзрачная девушка пришла с наступлением темноты к тетушкам, она была сама не своя и в исступлении корчилась на плетенном вручную половике, сжав кулаки с такой силой, что они выглядели как кошачьи лапы. Она запрокидывала голову, и волосы лоснистой пеленой накрывали ей лицо, она до крови кусала губы. Любовь сжирала эту девушку заживо, она уже успела потерять тридцать фунтов веса. Словом, тетушкам, похоже, стало ее жалко, что случалось с ними, надо сказать, нечасто. Денег у девушки было маловато, и тем не менее они дали ей самое сильнодействующее снадобье, какое только есть, снабдив подробными указаниями, как им пользоваться, чтобы чужой муж тоже полюбил ее. После чего предупредили, что назад хода не будет, так что пусть она хорошенько подумает.
– Я подумала, – сказала девушка ровным, красивым голосом и, по всей видимости, убедила тетушек, во всяком случае, они вынесли ей на блюдечке из лучшего сервиза – того, что с синими плакучими ивами над ручьем, – голубиное сердце.