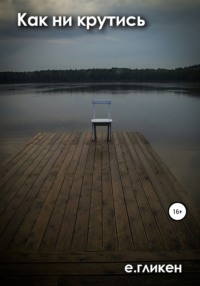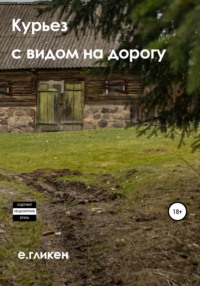полная версия
полная версияНе стоило и начинать, или В общем все умерли
Сегодня утром, например, он решил, что наступать стоит только на светлые участки асфальта, незатененные домами, чтобы привлечь в жизнь светлую полосу.
Надо, однако, признать, что все действия, хотя и выдавали результат, но в жизни он слишком часто отличался от обещанного знаками. Но и игнорировать те моменты, когда результат совпадал с предсказанным, было нельзя.
Иногда Виктор Андреевич догадывался, что метод не работает, просто иногда случаются совпадения. Но мысль эту он гнал от себя всеми силами. Гнал не потому даже, что ему было приятно думать, что такой неприметный и ничем не одаренный человечек может управлять судьбой, а потому, что очень боялся, что случится что-то плохое.
Вечная тревога о том, что что-то может пойти не так, о том, что в любой момент может случиться несчастье, о том, что у него никак не выйдет сделать хорошо, что он обязательно все испортит была его постоянным спутником. А маленькие хитрости, и он в глубине души понимал это, позволяли ему не столько даже изменить судьбу, сколько успокоить терроризирующий страх, обманом заставив самого себя поверить, что вот теперь, после того как он, к примеру, крутанул головой трижды в левую сторону, ничего плохого не случится. Это на некоторое время разжимало холодные пальцы тревоги, сдавившей горло Виктора Андреевича, чтобы затем с новой силой перекрыть ему доступ к спокойствию и радости. Но ведь хоть несколько минут, хоть сколько-то он выкрадывал у липкого страха. И это был единственный метод, позволяющий остановить непрестанно возникающие в воображении картины всевозможных несчастий, готовых в любой момент обрушиться на него.
Перед встречей Виктор Андреевич успел забежать в церковь. На всякий случай, любая помощь сегодня ему была крайне важна. Внутри было пусто, какая-то старуха терла золотой подсвечник у Николы Чудотворца, как раз там, куда и планировал поставить свою свечу Виктор Андреевич.
– Простите, можно я… – робко кашлянул Виктор Андреевич.
– Сейчас вот очищу – и можно, – ответила спиной старуха.
– Знаете, – продолжил Виктор Андреевич смелее, – я сильно тороплюсь…
– А ты не торопись, тут спешка ни к чему…
Ну уж это было слишком, на самом деле. Но Виктор Андреевич взял себя в руки и решился ждать. Все же не в магазине, а в храме.
– Ты вот торопишься, а что с тебя толку – головой крутишь только, как сова, дерганый весь…
– Что ж делать, столько дел…
– Что ж делать, – передразнила его старуха. – Сесть и подумать. Чего ты дергаешься? А я тебе скажу. У меня дома два кота. Я, бывает, зайду, а один кот дергается. Что значит? Значит, нагадил. А дергается отчего? Со страху, оттого что знает, что нагадил и ждет, что накажу.
– Ну, знаете, – вскипел Виктор Андреевич. – Что же вы хотите сказать, что я вам в тапки нагадил? И теперь дергаюсь?
– А сказать я хочу вот что. Тебе прощения просить надо.
– У вас, наверное? – нервно рассмеялся он
– А хоть и у меня.
«Дура», – подумал Виктор Андреевич и отошел в сторонку.
Старуха вскоре закончила уборку и освободила пространство. Он наскоро перекрестился, воткнул свечку и развернулся к выходу. Не тут-то было, старая карга загородила выход мощью фигуры.
– Не торопись, тебе говорю.
Толкать женщину в храме казалось совершенно неуместным, и Виктор Андреевич вдохнул побольше воздуха, намереваясь выдержать все, что бы сумасшедшая ни сказала.
– Ты подумай, – продолжала назойливая ветошь. – Вот хоть ребенка возьми, хоть кота моего. Сделают что-то, и думают, что сделали нехорошее. И боятся, наказания ждут. И страшно им, что накажут, и все же хочется, чтоб наказали, потому что, как только накажут, им и бояться больше нечего. А если их не наказать, так они так и будут трястись. В любой натуре так заведено, что, если что сделал плохое, пока прощения не попросишь или вину не загладишь, ждешь-тревожишься, что что-то нехорошее случится.
– Да что ж я сделал-то! – почти выкрикнул Виктор Андреевич
– Кто ж, кроме тебя знает? Бывает, что и не сделал ничего, а думаешь, вот виноват. Кто-то бывает даже так думает: раз мать с отцом развелись, так это я, их ребенок, виною тому. И живут с этим, и себя винят, и дергаются, что их жизнь за это накажет. А жизнь-то не наказывает. Не за что ведь. А они дергаются, боятся.
– И что ж теперь делать, – совсем растерялся он.
– Прощения просить.
– Так сами ж говорите – не за что.
– Так у себя самого и просить, что сам себе горе придумал на ровном месте-то, чтоб самого себя простить и не дергаться.
– Так почему у себя-то? Может, у Бога?
– Так тебя что ли Бог наказывает? Сам себя и наказываешь, выдумал, испугался и боишься, что попадет.
– А у Бога тогда чего просить?
Старуха прищурилась, занесла правую руку широким полукругом, и воткнула большой палец ее в середину лба Виктора Андреевича:
– Тебе, мил человек, ума надо просить, для начала…
Старуха
Справа мелькнула тень, и он замолчал. Сразу, моментально, без каких-либо переходов сник. Вот был человек веселый, и вдруг на его месте откуда ни возьмись взялся ссутулившийся поникший старик.
Он ненавидел себя в эти моменты. Но поделать ничего не мог. Он всегда видел эту тень. Случись однажды ему обнаружить, что она исчезла, он бы волновался гораздо больше, чем в тот момент, когда бы услышал звуки ангельских труб, возвещающих конец мира.
Ему было двенадцать, когда это впервые случилось. Стоял теплый апрельский день: первая жара плавила тело, бетонные нависающие здания, подступая ближе, чем обычно, наваливались на человека всей своей неуклюжей тоской, а черемуха дурманила ароматом будущего счастья.
В такие дни тянет к реке, к траве, к оголившейся черной влажной земле, куда угодно, лишь бы вырваться и увидеть небо на сколько хватает глаз, увидеть огромный простор, не прерываемый уродливой геометрией многоэтажных строений и не вспоротый разрезами проводов. Вырваться туда, где нет ограничений, где можно бежать, не утыкаясь в углы подворотен, мчаться и кричать хоть что-нибудь, неважно что, но обязательно во весь голос, и быть громче всех: громче ворон, радиопередач, полицейских свистков и пожарных сирен. Бежать и кричать, и быть единственным между небом и землёй, и быть самим этим небом и этой землёй. И упасть, и перекатываться, долго-долго меняя местами верх и низ, и, наконец, перемешать их до того состояния, чтобы совсем стало непонятно, где что находится. А потом встать и превратить головокружительный хаос в новый порядок. Поставить лазурь над головой, набросав на нее прозрачных сеток из облаков, укрепить твердь под ногами, замазать плеши ее зеленью и желтыми цветами, и назвать их мать-и-мачеха, рассовать мелких птиц между двух этих огромных пространств, дать им голос и узнать их по нему, плеснуть в ямы и трещины зеркала водной глади, набрать воздуха побольше и дуть, пуская рябь по этим зеркалам, чтоб не так точно повторяли небеса и чтобы ненароком не перепутать снова местами небо и землю.
В выходные они ездили всей семьёй к реке. И он был счастлив, и кидал бледные камни в темно-синюю торопящуюся муть, и вынимал их оттуда новыми и блестящими, и запускал руки в песок, набирая в горсти, и пропускал его меж пальцев, глядя, как тот сверкает на солнце, и вдыхал полной грудью запахи дыма от углей и от палёной травы.
И, наконец, заснул, ничком, как спят боги, утомившиеся за день, как делают это люди с кристально чистой совестью, раскидав по сторонам руки и ноги, раскрасневшись, без снов, без мыслей, без планов назавтра.
Утром в городе шел дождь. Он смотрел в окно, по стеклу которого стекали вперемешку все краски нового мира, соединяясь в единую серую, неясную, акварельную работу неумелого мастера. Вчерашняя манящая свежестью и молодостью весна оборотилась в старую актрису, разбавляющую черные потёки туши горькими слезами об утрате чего-то, что, казалось, вовеки пребудет…
В ту самую старуху в маленькой сетчатой шапочке и сером стареньком плащике, застывшую на ходу, как будто в крайнем удивлении, словно она совсем недавно пыталась припомнить ответ на вопрос, но, так и не припомнив, лишь пожала плечами, ту самую, которая лежала на перекрестке перед окном его квартиры.
Он был достаточно взрослым и многое уже знал о смерти. Он знал, как это происходит, куда отправляются тела, а куда – души, как стоит вести себя на похоронах… Не знал только одного. Не знал, что смерть реальна, что она настолько рядом, вот прямо вот здесь.
Ночью он трижды заходил к родителям в спальню, крался тихо, тайком, чтоб не разбудить. Подходил к кровати и слушал, дышат ли они. Потом отходил и возвращался, и снова слушал. После бежал, задыхаясь от слез, странных непонятных слез, которые одновременно лились и от счастья, что папа и мама дышат, и от бессилия, что невозможно угадать момент, когда вдруг дышать перестанут.
Под утро забылся быстрым беспокойным сном. Снилась старуха. Она не была страшна, как страшны бывают ведьмы в детских сказках, не была уродлива или злобна. Старуха была обыкновенна и привычна. И это не давало никаких шансов сознанию объяснить смерть хоть какими-нибудь причинами, не давало возможности разглядеть приметы ее приближения. К примеру, вот человек, и он сделал нехорошее, и из этого можно построить небольшое заключение: поступил плохо – скоро умрешь. В этом таилась надежда на продление жизни, в этом хранился рецепт бессмертия: будь добр и жизнь твоя будет долгой. Но старуха была неумолимо такой же, как сотни остальных в округе.
Сейчас ему 43, и все эти годы он провел рука об руку с той самой старухой. Где бы, когда бы ни пришлось ему забыться и обрадоваться жизни, залюбоваться на течение ее, восхититься красотой, тут же являлась ему тень старухи с удивленно приподнятыми плечами. Он давно перестал ее бояться. В какой-то мере она была его верным спутником всю жизнь, ту самую жизнь, от которой он теперь отворачивался, которую опасался полюбить, и которой он теперь страшился больше смерти.
Про любовь
Ах, как быстро забываются чувства. Память о них еще долго тлеет в воспоминаниях, но уже в виде фраз и предложений, тысячу раз переписанных и пересмотренных, как запертый в старом флакончике аромат любимых духов, который по истечении времени выпускает в пространство только горький привкус спирта.
Ах, да, тот самый флакон. Куда же она его подевала?
Маленькое сморщенное лицо самодовольно ухмыльнулось, и ветхая головка на ввалившихся плечиках задрожала мелкой дрожью.
– Даааа, – сказала Анна Федоровна. – Сколько живу, все вспоминаю.
Дверь распахнулась, и в комнату вошла дочь Анны Федоровны, Лялечка. Анна Федоровна быстро приняла унылое выражение лица, как то и положено старому дряхлому человеку, отягощенному печальным опытом прожитой жизни и букетом старческих недугов.
– Мама! Я не могу найти старый альбом, где ваши с папой фотографии в молодости? Ты не помнишь, куда его положила?
– Нее, – хрипло дребезжа протянула Анна Федоровна. – Какой альбом?
Лялечка махнула рукой, «да не важно», и вышла из комнаты.
Все они уже привыкли, что старушка мало чего помнит из своей прошлой, да и нынешней жизни. От Анны Федоровны в этом доме никто давно уже ничего ждал, еду для нее, как и для кота, готовили в отдельной кастрюльке, обоим долго варили снедь и затем яростно, со всей страстью заботливой и любящей родни, толкли содержимое в кашу. Оба уже были стары и беззубы.
Оба они шаркались ночью по темным закоулкам большой старой квартиры, натыкаясь на столы и тумбы, роняя себя на пол в приступах подагры, хлопая и шлепая невидимыми предметами, хрипя, сморкаясь и откашливаясь, в общем, занимаясь всем тем, чем положено заниматься, когда ты стар и каждый день для тебя открывает новую расстановку мебели, и единственной твоею целью остается одна – раздражать как можно больше домочадцев.
– Даааа, – повторила Анна Федоровна, с чувством высморкавшись, и теперь бившая себя сухонькой ладошкой, державшей кружевной девичий платочек, по носу, силясь попасть в район расположения ноздрей, чтобы утереться. – Где же тот самый флакончик?
Избив себя достаточно по лицу, она встала, но не вся сразу. Сначала она подняла с кушетки низ спины и застыла в таком положении, балансируя, чтобы не упасть, ловя слезящимися глазами стаю черных мушек, брызнувших из-под лысых век. Не торопясь, хорошенько раскачав верхнюю половину туловища, бросила руки в сторону письменного стола, стоявшего неподалеку. С первого раза зацепиться не удалось. Так часто бывало, и на первую попытку Анна Федоровна никогда не рассчитывала. После маленькой паузы она попробовала еще раз. В этот раз все прошло удачно. Настала пора выпрямить колени.
Старый кот, гревшийся тут же, в тюфяках и подушках, упал со сна ей под ноги и чуть не сбил хозяйку. Впрочем, далее действий никаких не предпринял и остался лежать в том же положении, в котором его застал паркет. Анна Федоровна приняла исходное положение.
Анна Федоровна, в свои годы, по праву гордилась тем, что может обслуживать себя сама.
Однако, силы были уже не те, и после проделанных упражнений тянуло полежать и отдышаться. Спать не хотелось. Анна Федоровна лежала на кровати, вперив очи в потолок, не моргая. Через какое-то время она обратилась к всегдашнему любимому своему занятию. Анна Федоровна представляла, как вот так лежащую с открытыми глазами, но уже бездыханную, ее застанут родственники. Одного она не могла решить до сих пор, кто бы лучше всего ее застал. Хорошо ли было бы, если это была бы Лялечка. Одно время ей казалось, что это было бы чудо, как хорошо. Ведь только Лялечка способна была бы оценить всю высокую поэзию поступка Анны Федоровны:
– Вот, жила тихо, никому не мешала, и так же тихо ушла. Спасибо, мама, спасибо тебе за все. Покойся с миром.
Однако, Анна Федоровна, подозревала, что от боли потери Лялечка могла расчувствоваться и кинуться реветь, что было совершенно неуместно. Прекрасно понимая, что тело ее крайне старо, и подозревая, что в некоторых местах, навсегда теперь недоступных ее взгляду в силу неповоротливости суставов, началось разложение, вряд ли можно было медлить с похоронами. Справедливо полагая, что жизнь Анна Федоровна провела совсем не святую, она понимала, что тело ее после смерти не расцветет благоуханиями роз, как бывало со святыми великомученицами, а значит надо было торопиться. Для слез не было времени.
Несмотря на внешнюю ветхость Анны Федоровны, ум ее был ясен и точен. Потому и сейчас застряв в подушках кровати, она застыла, заслышав приближение торопливых шагов Лялечки, не сводя открытых глаз с потолка.
– Мама? – тревожно спросила Лялечка.
Анна Федоровна лежала и не шевелилась. По задумке матери, дочь стоило, в некотором смысле, натренировать, подготовить к наступлению важного для всех момента ее смерти, чтобы Лялечка, не тратя времени на слезы, сразу же приступила к распоряжению о похоронах.
В этот раз репетиция не удалась. Лялечка, как и всегда не к месту, снова проявила такт и бережно закрыла за собой дверь.
– Даа, – протянула Анна Федоровна. – Флакончик-то…
Повернувшись на бок, она спустила ноги с краю кровати, ловко попав ими в кота, который и ухом не повел. Как знать, может быть, старый тоже тренировал Анну Федоровну, готовя ее к собственной кошачьей кончине.
Анна Федоровна постучала по коту сухонькой ножкой, тот ожил и отошел. В этот раз попытка встать увенчалась успехом.
Сегодня был особенный вечер. Вечер, когда Анна Федоровна познакомилась с Ванечкой.
Так звали молодого и наглого студента медицинского института.
Черные до плеч волосы, закрученные в пружинки томных кудрей, обрамляли его белоснежное лицо. Весь Ванечка был до того хорош, что напоминал прелестную девчушку, если бы не та задиристая наглость, которая прорисовывалась во всех его движениях.
«Бедная моя спина, – подумала Анна Федоровна. – Сколько лет я уж не видалась с ней. Все ли она так же хороша, как была тогда, на бальном выпускном вечере, когда мы кружили с Ванечкой, и зал весь расступился, освободив для нас одних площадку и любуясь нами?»
И она отдалась воспоминанию, и вот она уже кружится в полуосвещенном зале, и ветер едва успевает за подолом ее шелестящего платья, а она…, она грациозно и свободно откинувшись…
Хруст, раздавшийся позади, вырвал ее из сказочных воспоминаний. Ай-ай, она позволила себе забыться, поверив, что может расправить плечи…
– Флакон, – подняла Анна Федоровна вверх коротенький и кривой указательный пальчик.
У задней стенки шкафа, за горой никогда не достававшегося фамильного фарфора, спрятанный от всех чужих глаз стоял стройный тонкого стекла флакончик с ярко-красной, поблескивающей жидкостью.
Анна Федоровна потянулась к нему, схватила в хрупкую ладошку и упала, не удержавшись тонкими ногами на скользком паркете.
Тело Анны Федоровны на общем собрании семьи было решено отвезти в морг, не оставлять дома.
– Там и приберут и оденут.
Принимал ветхий трупик молодой наглый хирург с черными кудрями до плеч. Если бы он и вполовину не был бы так красив, его бы давно уволили за задиристый и неуживчивый характер.
Он никогда не трудился делать грустную мину, даже из уважения к родственникам почивших, напротив, вел себя как менеджер в дорогом ресторане, вальяжно открывая и закрывая холодильники, деловито извлекая на стол тела покинувших земную твердь.
Поморщившись над телом высохшей старушки, он принялся собирать ее в последний путь. В закостеневшей правой руке было что-то зажато.
Красавец-хирург выругался на нерадивых родственников, так небрежно оставивших покойницу. Были случаи, когда в морг предъявляли претензии о забытых золотых украшениях, и это всегда бывало чрезвычайно неприятно. Однако, не докончив своей гневной тирады, хирург замер. Руки его тряслись…
– Глупая! Глупая моя девочка! Что же ты наделала? Глупая моя Аннушка. Зачем же ты берегла флакончик, когда его надо было вдыхать, вдыхать каждый год в день нашей встречи? Вдыхать, чтобы оставаться молодой и продлить себе жизнь, чтобы потом, когда муж твой умрет и дети вырастут, мы смогли бы свободно и не боясь никого и ожидая ничьего одобрения встретиться и быть навсегда вместе!
Хирург, рыдавший теперь, сидя на холодном полу покойницкой, был тем самым Ванечкой, которого одного только и вспоминала во всю свою жизнь Анна Федоровна.
Связать судьбы в молодости они не смогли, Аннушка была дочерью известного генерала, и ей полагалось выйти за военного. Так решил отец. Вот так и сказал: «Только офицер!» Сказал и хлопнул по столу огромным своим кулаком.
И был офицер. И была командировка офицера, Лялечкиного отца, далеко-далеко, и Аннушка с дочкой наперевес тряслась с ним в потном вагоне, догоняя горизонт.
И было прощание перед отъездом. И Ванечка вручил ей маленький тонкого стекла флакончик с ярко-красной жидкостью, и просил вдыхать его аромат каждый день их встречи. И была дивная история о хранившемся во флаконе соке первого на земле граната, который не даст влюбленным пропасть в этом мире, и обязательно сохранит их друг для друга.
Выдумщик был Ванечка, но Анна Федоровна всю жизнь хранила его подарок. Хранила ни разу не открыв. Ведь Анна Федоровна до последнего дня обладала ясным и точным умом, и четко знала – стоит открыть флакончик – весь аромат улетучится, и останется только горький привкус спирта.
О важном
В конце грязной улицы, неизбалованной фонарями, изрядно вымазанной грязью и украшенной, как новогодней гирляндой, рядами красных носов, валяющихся тут же по периметру их хозяев, стоял маленький бар.
Ничего особо примечательного во внешности старенького заведения с синей крышей не было. Держатель его – маленький китаец с вечной улыбкой и лоснящимся передником.
А секрет был. И китаец, как заведено у его народа, бережно его охранял.
Всякому, кто решился бы дойти до бара по закоулкам вечернего городка, подавалось меню, где в графе напитки среди прочих значились выведенные латиницей названия: Sake, Vodka, Hrenznaetchto…
Именно это Hrenznaetchto и было секретом маленького заведения, приносившего доход небольшой семье китайцев.
Происходило это вот как. Когда русскоязычные посетители добирались до пункта питания, рассматривая меню, они неизменно восклицали: «О, смотри-ка! А это что? Хрен знает что!» Обязательно требовали себе напиток. Через несколько минут, сидя друг напротив друга, хлопнув по маленькой порции напитка, каждый раз, как в старом проверенном спектакле, посетители повторяли один и тот же диалог:
– Ну? Что это?
– Да хрен знает что!
И, хотя диалог этот происходил вот уже с небольшим три года, маленький китаец всегда внимательно следил за реакцией гостей, облегченно выдыхая после двух реплик.
Каждый пытался разгадать, что же это за напиток. Но доза была слишком мала, чтобы понять, чтО составляет букет и аромат на дне маленькой чашечки для сакэ. Поэтому вывод был неизменен: хрен знает, что налил туда старый черт.
Сейчас китаец уже умер, и в общем-то можно поделиться его тайной.
Несколько лет назад в бар зашли первые русские посетители. Мужчина с тонкими усиками и вальяжная дама с низким грудным голосом и в перьях. День был промозглый, вечер и того хуже. Гости требовали «чего-нибудь согреться».
Однако, ни чай, ни предложенная подогретая рисовая водка не впечатлили посетителей.
– Любезный, налейте же нам водки! – потребовала дама, томно опуская ресницы на высокую грудь.
И любезный налил. Налил в маленькую чашечку для сакэ. На самое донышко.
Тонкие усики господина, сопровождавшего высокую грудь с опущенными на нее ресницами, заходили в нервной пляске, ощетинились и из-под них донеслось высокое пронзительное: «Да стакан-то есть у тебя?!»
Китаец спохватился, бросился искать стакан. На самом дне рукомойника, под горой блестящего израненного временем фарфора, он отыскал артефакт. Стакан был вымыт и подан.
Дама перегнулась через стойку бара и дотянулась до бутылки, содержащей напиток ее родины. Китаец не сопротивлялся, он понял: в этот момент происходит что-то очень важное, вселенная вершит его судьбу.
Дама вскинула голову к небесам, как для истовой молитвы, и залпом влила в недра свои огненную воду.
После некоторого молчания, она посмотрела в глаза хозяину бара и медленно проговорила:
– Вот это, любезный водка… А вот это, – и тут она двумя пальцами, как пинцетом, протянула ему чашечку для сакэ, где недавно на донышке была капля той же самой жидкости, – вот это, мой маленький друг, хрен знает что.
Путники продолжили свой путь, а китаец с тех пор обновил меню.