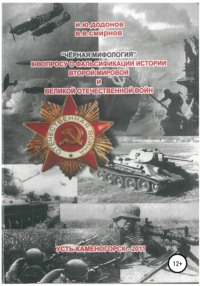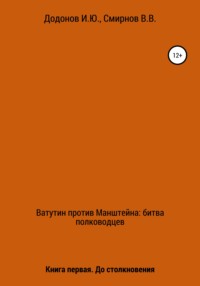полная версия
полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Очевидным было лишь одно: заразивший Н.В. Каган и Н.Я. Уткину вирус был чрезвычайно вирулентен. Уж не с тем ли вирусом «громадной вирулентности», на который «напоролась» экспедиция осенью 1938 года, работали исследовательницы? Т.е. с вирусом осеннего (японского) энцефалита. Тогда становится ясно, почему «не сработали» прививки.
Памяти погибших исследовательниц посвятили свою монографию «Вирусы комплекса клещевого энцефалита», вышедшую в 1939 году, Е.Н. Левкович, В.В. Погодина, Г.Д. Засухина и Л.Г. Карпович. Им также был посвящён 2-й выпуск 56-го тома журнала «Архив биологических наук» за 1939 год, полностью отданный проблеме клещевого энцефалита.
Главной задачей 3-й (1939 год) и 4-й (1940 год) Дальневосточных экспедиций являлась масштабная вакцинация населения в таёжных районах Дальнего Востока.
В начале мая 1939 года А.А. Смородинцев, остававшийся в Москве и присоединившийся к 3-й экспедиции несколько позже, писал Е.Н. Левкович, в тот момент находившейся с основной группой экспедиции «на месте»:
«Перед нами уже в этом году ставят обязательную директиву привить против осеннего энцефалита большое число населения эндемических очагов, учитывая безвредность вакцины по Оборскому опыту и рассчитывая на большую эффективность при повышении дозировки за счёт человеческого мозга. …Нам требуется уже сейчас приступить к организации подготовки этой кампании. Я написал подробную инструкцию по изготовлению вакцины из мозга людей, погибших от таёжного энцефалита, которую привезу 28/V» [30; 7].
Данные по экспериментальному испытанию вакцины из мозга людей, погибших от энцефалита, вошли в диссертацию Е.Н.Левкович, но это направление дальнейшего развития не получило.
Увы, 3-я экспедиция также не обошлась без человеческих потерь: на территории Супутинского заповедника заразился энцефалитом и погиб паразитолог Б.И. Померанцев.
В целом, 3-я и 4-я экспедиции полностью справились с поставленной перед ними задачей: была проведена массовая иммунизация населения советского Дальнего Востока вакцинами против весенне-летнего и осеннего энцефалитов. Заболеваемость этими инфекциями снизилась в десятки раз. Десяткам тысяч людей удалось спасти жизнь и здоровье.
Теоретическим итогом 3-й экспедиции можно считать окончательную формулировку академиком Е.Н. Павловским теории природной очаговости заболевания.
В 1941 году А.А. Смородинцев, вместе с другими участниками Дальневосточных экспедиций (Е.Н. Павловским, Е.Н. Левкович, П.А. Петрищевой, А.К. Шубладзе, М.П. Чумаковым и В.Д. Соловьёвым), был награждён только что учреждённой Сталинской премией (1-й степени) с формулировкой: «За открытия в 1939 году возбудителей заразных заболеваний человека, известных под названием “Весенне-летний и осенний энцефалиты”, и за разработку успешно применяемых методов их лечения, одобренных Наркомздравом СССР».
Вскоре началась Великая Отечественная война, и всю денежную составляющую премии Анатолий Александрович, так же как и все его коллеги, передал в Фонд обороны.
С октября 1941 г. по октябрь 1942 г. А.А. Смородинцев находился вместе с ВИЭМ в эвакуации в Томске. Здесь учёный совмещал работу с занятием должности главного эпидемиолога Томского городского отдела здравоохранения.
Вскоре после возвращения из эвакуации, в 1943 году, Анатолий Александрович вместе с группой специалистов был командирован в Северную Африку для работы в составе международной комиссии по поискам химического и бактериологического оружия на складах немецкой армии Роммеля, разгромленной союзниками.
Работа комиссии завершилась в начале 1944 года, и А.А. Смородинцева направляют в научную командировку в США (по приглашению Рокфеллеровского фонда). Находясь в США, он был избран почётным членом американского Общества микробиологов.
В 1945 году Анатолия Александровича избирают членом-корреспондентом созданной в 1944 году Академии медицинских наук СССР.
В 1946 году учёный создаёт и возглавляет в Москве Институт вирусологии имени Ивановского (занимает этот пост до 1948 года).
В 1948 году А.А. Смородинцев возвращается в Ленинград, где работает заведующим отделом вирусологии Института экспериментальной медицины (до 1967 года).
В начале 50-х годов отдел под руководством А.А. Смородинцева приступил к изучению полиомиелита и поиску путей борьбы с ним.
Как уже отмечалось ранее, в Советском Союзе с конца 40-х годов шёл неуклонный подъём заболеваемости этим страшным недугом, который с 1952 года приобрёл характер ежегодных эпидемических вспышек.
Довольно скоро Анатолий Александрович убедился, что эффективной защитой против болезни может быть только живая вакцина. Вот над ней-то и начал трудиться возглавляемый им коллектив. Однако долгое время достичь устойчивого понижения вирулентности (аттенуации) штаммов полиовируса исследователям не удавалось.
В 1956 году А.А. Смородинцев вместе с М.П. Чумаковым и М.К. Ворошиловой совершает поездку в США с целью ознакомления с наработками американских микробиологов в области изучения полиомиелита и борьбы с ним. В главе, посвящённой Михаилу Петровичу Чумакову, мы уже рассказывали об этой научной командировке, о подлинном радушии, с которым американские учёные принимали советских коллег, делясь с ними результатами своих исследований и технологиями изготовления противополиомиелитных вакцин. Говорили и о том, что именно в результате общения с М.П. Чумаковым, А. А. Смородинцевым и М.К. Ворошиловой А.Сэбин, работавший над созданием живой противополиомиелитной вакцины, решил передать советским учёным аттенуированные штаммы полиовируса, поскольку в Соединённых Штатах его исследования, не встречая поддержки, фактически были приостановлены.
По одной из версий, аттенуированные штаммы были присланы А. Сэбином специальной посылкой в Ленинград, профессору А.А. Смородинцеву, вскоре после возвращения советской научной миссии в Союз. Есть и другая версия, согласно которой наши исследователи сами привезли штаммы из США.
Как бы там ни было, но работу со штаммами Сэбина начал вести именно отдел вирусологии Ленинградского ИЭМ под руководством А.А. Смородинцева, поскольку Институт полиомиелита, которым руководил М.П. Чумаков, в 1956 – 1957 гг. оказался полностью задействован в освоении технологии выпуска убитой полиовирусной вакцины Солка и обеспечении этой вакциной медицинских учреждений Советского Союза.
Надо учитывать, что немалый опыт по созданию живой противополиомиелитной вакцины у А.А. Смородинцева и его сотрудников уже имелся. Поэтому и с этой стороны было вполне логично, что работы над созданием живой вакцины велись в Ленинграде.
В наше время весьма расхожим стало мнение, что советским учёным необходимо было только наладить выпуск препарата, ведь вакцину-то, по сути, уже создал Сэбин. Потому-то, мол, она и называется вакциной Сэбина.
Дело обстояло не совсем так, точнее – совсем не так. Действительно, Сэбину удалось создать аттенуированные штаммы всех трёх видов полиовируса, изготовить опытные партии вакцины и даже испытать её на себе, своей семье и затем провести опытную вакцинацию небольшого количества детей. Результаты во всех случаях оказались положительными. Но и общественность, и правительственные структуры в США были настроены против создания и применения живой вакцины (опасались, что ослабленные штаммы вируса могут в организме ребёнка восстанавливать свою первоначальную вирулентность; опыт подобной «осечки» был – недавние неудачи испытаний живой вакцины Копровского – Кокса в Ирландии).
Сэбин, как большой и честный учёный, отдавал себе отчёт, что фактическая приостановка его работ не позволяет считать вакцину законченной – требовались и продолжение лабораторных исследований, и более широкие опытные вакцинации. И того, и другого американский учёный был лишён. Потому-то, познакомившись с советскими коллегами, он и решил передать им свои штаммы для продолжения работы с ними.
Так что дело было далеко не только в организации промышленного выпуска живой вакцины.
А.А. Смородинцев также был большим и честным учёным, и он прекрасно понимал, что аттенуация штаммов Сэбина должна быть многократно проверена и переповерена, ибо с вирусами не шутят. А это означало осуществление длительных и кропотливых исследований, чем и занялся Анатолий Александрович со своими сотрудниками.
Довольно скоро Смородинцев убедился, что аттенуация штаммов Сэбина недостаточна: в ряде случаев они ещё вызывали изменения мозга у обезьян. Получается, что американские общественность и правительство опасались не зря – препарат Сэбина, подобно препарату Кокса – Копровского, таил в себе угрозу. Но ведь этого опасался и сам Сэбин. Потому-то и стремился к продолжению исследований, но был лишён такой возможности из-за опасений американских общественности и правительства (для американского учёного образовывался замкнутый круг).
Выход из данного замкнутого круга искали уже советские учёные под руководством А.А. Смородинцева.
Итак, необходимо было добиться дальнейшего ослабления вирулентности штаммов Сэбина и закрепить этот результат.
Данная работа была проведена: вирусы перестали вызывать поражение тканей у обезьян.
Опытные образцы вакцины учёные решили испытать на себе. А.А. Смородинцев и большинство сотрудников отдела вирусологии выпили жидкость, содержавшую вакцинные штаммы, и, после тщательного врачебного наблюдения, убедились в их полной безвредности.
Но организм ребёнка всё же отличается от организма взрослого, в ряде случаев он оказывается более восприимчив к заболеваниям. Поэтому убедиться в безопасности ОПВ для детей можно было, только испытав её на детях.
Первым ребёнком, получившим в СССР живую противополиомиелитную вакцину, стала пятилетняя внучка А.А. Смородинцева Леночка. Можно представить, какого мужества от учёного требовал подобный шаг. Родственники вспоминают разговор, состоявшийся между Анатолием Александровичем и его супругой, бабушкой Леночки, по этому поводу:
– А если с ребёнком что-нибудь случиться? – спросила А.А Смородинцева жена.
– Тогда ты мне оторвёшь голову, – последовал его ответ.
Но по-иному поступить учёный не мог, он не имел морального права испытывать вакцину на детях других людей, не испытав её на своём ребёнке.
Тревожные недели врачебного наблюдения за Леночкой, переживания родителей и дедушки с бабушкой… Однако всё закончилось благополучно: ребёнок не заболел и приобрёл полный иммунитет к дикому полиовирусу44.
После этого вакцину получили дети некоторых сотрудников отдела А.А. Смородинцева. И в данном случае препарат показал свою безопасность и эффективность.
Результаты этих испытаний были рассмотрены в Минздраве СССР, который разрешил проведение дальнейших опытных вакцинаций в небольших детских коллективах в Ленинграде. Предварительно прививаемым детям вводили убитую вакцину или гамма-глобулин, содержавший антитела к полиовирусу. После успешного окончания этих вакцинаций ОПВ получили дети, которым не делали защитных прививок, то есть дети, наиболее восприимчивые к полиомиелиту.
Вся работа проводилась под тщательным наблюдением большого коллектива врачей под руководством профессора Е. Давиденковой. Полная безвредность прививок для детей была ими подтверждена. Дети приобретали иммунитет к дикому полиовирусу. В то же время в их кишечном канале интенсивно размножались вакцинные вирусы всех трёх типов, которые довольно легко передавались окружающим.
Но даже и после данных успешных испытаний голоса скептиков, в том числе и влиятельных скептиков из Минздрава, оставались весьма сильны. Аргумент был тот же: есть большой риск, что вакцинные вирусы в организмах прививаемых могут восстановить свою вирулентность.
Чтобы окончательно опровергнуть возражения скептиков, А.А. Смородинцев с коллективом своего отдела провёл следующий показательный эксперимент.
Была отобрана группа восприимчивых к полиомиелиту сотрудников отдела. Первому из них дали выпить вакцину. После того, как в кишечнике вирус размножился, снова выделили его и вырастили на культуре ткани: получили второе поколение вируса. Его ввели следующему восприимчивому человеку. Подобным образом вакцинный вирус прошёл 12 пассажей, т.е. 12 пересевов от одного человека к другому.
После каждого из пассажей вакцинный вирус проверяли на обезьянах: все они остались здоровыми.
Так было доказано, что ослабленные вакцинные штаммы сохраняют все укоренившиеся в их наследственном аппарате качества безвредного вакцинного вируса и свойств болезнетворности для человека не приобретают.
Этот эксперимент снял возражения скептиков из Минздрава, и зимой 1957 – 1958 годов были организованы уже более широкие клинические испытания ОПВ – врачами были привиты 2 500 детей в Ленинграде. Вакцина вновь продемонстрировала свою безвредность. Ещё раз проверили вирус, выделенный из кишечника привитых детей, и доказали его полную безвредность для обезьян и идентичность с исходными штаммами.
Теперь созрели условия для проведения массовых эпидемиологических наблюдений, на что и последовало разрешение Министерства здравоохранения СССР. В течение 1958 года в Ленинграде, Псковской, Новгородской областях, Латвии, Молдавии, Белоруссии и Эстонии ОПВ привили 1 миллион 800 тысяч детей. За привитыми велось тщательное медицинское наблюдение, которое установило, что в течение 3 месяцев после введения вакцины все дети оставались вполне здоровыми. Непривитые дети в этих же районах (крайне неблагополучных по полиомиелиту в предшествующие годы) заболевали полиомиелитом, тогда как ни один из получивших ОПВ не заболел. Также летом 1958 года в ряде других районов страны наблюдались вспышки заболевания. В зонах же, где была проведена эта первая массовая вакцинация, заболеваемость почти прекратилась.
Итоги опытных вакцинаций 1957 – 1958 гг., проведённых либо специалистами отдела вирусологии Ленинградского ИЭМ, руководимого А.А. Смородинцевым, либо под их непосредственным руководством, позволили в 1959 году приступить к массовой вакцинации ОПВ на всей территории СССР. Кампании по массовой вакцинации 1959 – 1961 годов привели к прекращению эпидемических вспышек полиомиелита в СССР. В нашей стране эта болезнь оказалась побеждена.
О событиях 1959 – 1961 годов нами подробно рассказано в главе, посвящённой Михаилу Петровичу Чумакову.
Здесь же ещё раз акцентируем внимание читателей на том, что версия «демократических» «правдоискателей» о том, что М.П. Чумаков, герой-одиночка, в противостоянии с советской тоталитарной системой «пробивал» живую противополиомиелитную вакцину в СССР, лишена всяких оснований. Как читатели могли убедиться, никакого противостояния с системой (воплощённой в Минздраве) не было, а в лице А.А. Смородинцева М.П. Чумаков имел не просто верного соратника, но и учёного, который, собственно, и проделал практически всю научную часть работы, чтобы аттенуированные штаммы Сэбина всё-таки стали полноценной живой вакциной.
В 1963 году А.А. Смородинцеву и М.П. Чумакову за разработку технологии производства живой противополиомиелитной вакцины и широкое её внедрение в медицинскую практику была присуждена Ленинская премия.
Следующим вирусом, в схватку с которым вступил Анатолий Александрович Смородинцев, был вирус кори.
В наше время о кори знают лишь понаслышке. Именно это позволяет некоторым писакам «от демократии» заявлять, что «инфекция эта в СССР осталась» [75; 552], демонстрируя то ли свою бессовестность, то ли свою безграмотность.
Поэтому вначале коротко расскажем, что представляла из себя эта болезнь.
Читатель немало удивится, узнав, что корь называли «убийцей детей».
В нашей стране так же, как и во всём мире, до 60-х годов, когда стали проводиться массовые вакцинации против этой болезни, корью обязательно заболевал практически каждый. Одних раньше, других позже, но корь поражала всех. Ежегодно в Советском Союзе ею болели 1,5 – 2 миллиона детей.
К началу 60-х гг. прошлого века корь давала от 20 до 30% всех заразных болезней в СССР, уступая только гриппу и ОРВИ. Повторяем, во всём мире картина была схожей.
Корь являлась очень опасной болезнью: когда-то (до создания антибиотиков и гамма-глобулина) от неё умирал каждый пятый заболевший ребёнок (потому-то и «убийца детей»). Сверх того, болезнь очень часто сопровождалась разнообразными осложнениями.
Вирус кори – чрезвычайно вирулентен и очень контагиозен. Достаточно ещё не болевшему ребёнку или взрослому попасть в одно помещение с заражённым, как он обязательно заболеет.
Корь практически моментально распространяется по всем помещениям здания, где находится заразный больной. Неоднократно были описаны случаи заражения людей, находившихся на других этажах того здания, в одной из комнат которого размещался больной корью. Т.е. вирус кори буквально вылетал через форточку комнаты, где играл или жил заражённый ребёнок, и потоками воздуха разносился в другие помещения, заражая там всех не болевших, восприимчивых к кори детей и взрослых.
Вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и слизистую оболочку глаз, проникает в местные лимфатические узлы и там размножается. Уже на третий день после заражения большие количества вируса начинают непрерывно поступать в кровь. Здесь он не просто находится в сыворотке крови, а прочно связывается с лейкоцитами. Т.е. клетки, призванные защищать от микробов человеческий организм, наоборот, становятся разносчиками вируса кори по организму. Более того, вирус в них ещё и успешно размножается.
Кровь разносит вирус кори буквально во все органы. Он внедряется в клетки лимфатических узлов, лимфатических и кровеносных сосудов и начинает в них размножаться. Защитные силы организма не могут воспрепятствовать распространению этого патогена.
Особенно сильно вирус поражает лёгкие, пищеварительный тракт и мозг.
Поражение лёгких вызывает обширные воспалительные процессы в них, возникают тяжёлые пневмонии. (Именно эти коревые пневмонии в нашей стране раньше были основной причиной гибели детей, заболевших корью.)
Попадание вируса в мозг приводит к воспалению мозговой ткани – развивается энцефалит. Следствием этого является такое осложнение кори как умственная отсталость.
Обследование больных корью детей с помощью электроэнцефалографов показывало, что почти у половины заболевших наступало выраженное изменение функций мозга.
Иногда вирус кори надолго задерживается в центральной нервной системе переболевших детей, маскируется в ней на годы. И только через 3 – 7 лет снова активируется и неожиданно вызывает смертельное обострение – панэнцефалит. У ребёнка или подростка вдруг нарушается координация движений, потом ему становится трудно читать, он постепенно глупеет, впадает в детство и через несколько месяцев погибает. По счастью, подобным образом заболевание проявляется крайне редко.
Из других опасных осложнений при кори возможны: воспаление среднего уха, приводящее к частичной или полной глухоте; миокардит – воспаление мышцы сердца; изъязвление роговой оболочки глаз, в результате чего возникает ослабление зрения и даже слепота.
Как видим, корь была отнюдь не лёгким, а чрезвычайно серьёзным и опасным заболеванием.
До 40-х годов прошлого столетия врачи вынуждены были быть простыми созерцателями болезни – средств хоть как-то повлиять на её ход у них не было.
Только после открытия пенициллина и других антибиотиков появилась возможность бороться со многими осложнениями кори.
Уже после окончания Второй мировой войны был получен гамма-глобулин. Его стали применять и для предупреждения, и для лечения кори. Вводя препарат заболевшему ребёнку, врач мог уменьшить распространение инфекции в его организме, в значительной степени смягчить течение заболевания.
Казалось бы, антибиотики и гамма-глобулин давали и защиту от кори, и обеспечивали её лечение. И действительно, после начала их применения смертность от кори резко снизилась. Но число ежегодно болевших детей было во всём мире по-прежнему просто огромным. Осенью повсеместно начинался подъём заболеваемости, а раз в три года возникали обширнейшие эпидемии.
Дело в том, что ни антибиотики, ни гамма-глобулин не могли всё-таки предотвратить возникновение коревых эпидемий. Первые боролись только с последствиями болезни, возникавшими в её результате различными воспалительными осложнениями. Второй давал только кратковременную защиту (3 – 5 недель) или смягчал течение заболевания.
К тому же надо учитывать, что гамма-глобулин невозможно было использовать массово для предупреждения заболевания. И причина здесь не только в кратком сроке его действия, но и в особенностях изготовления.
Гамма-глобулин готовят из крови доноров путём специальной очистки и концентрации. Полученный препарат содержит большое количество различных антител, в том числе и антител против кори.
Однако ясно, что количество препарата зависит от количества донорской крови (а ведь она идёт не только на изготовление гамма-глобулина). Учитывая всего 3-х – 5-недельный срок профилактического действия гамма-глобулина, каждому ребёнку за «коревый сезон» пришлось бы делать инъекции препаратом не менее трёх раз. И это не учитывая лечения кори с его помощью, а также лечения и профилактики других заболеваний, где он может использоваться. Как говорится, так никакой донорской крови не напасёшься.
Было совершенно очевидно, что полноценный барьер на пути инфекции может поставить только вакцинация.
Создание вакцины было облегчено тем обстоятельством, что, как выяснили учёные, вирус кори един на всём земном шаре. Вакцину, созданную в одной стране, на любом континенте, или технологию её изготовления можно было применять в любой другой стране.
В СССР первым работу над вакциной против кори начал в конце 50-х гг. коллектив лаборатории вирусологии Ленинградского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера под руководством А.А. Смородинцева (Анатолий Александрович руководил этой лабораторией, продолжая одновременно возглавлять отдел вирусологии в Ленинградском институте экспериментальной медицины). Вирусологи Л. Бойчук, Е. Шикина, Л. Тарос, В. Мешалова, Т. Перадзе, Т. Трегубова – вот те люди, которые работали с А.А. Смородинцевым над созданием препарата.
Изначально учёные пошли по пути создания живой вакцины. Для получения вакцинного коревого вируса решили использовать культуры ткани.
От больных детей выделили много вирусных штаммов, и все они прошли длительный путь ослабления вирулентности. На лабораторных животных, в частности, обезьянах, была проверена устойчивость данного ослабления. При этом учёные убедились, что вакцинные штаммы вызывают интенсивное образование антител у животных.
Теперь предстояло пробные образцы вакцины испытать на людях. Излишне говорить, что в первую очередь А.А. Смородинцев и его сотрудники ввели вакцину себе. После того, как всё закончилось благополучно, были привиты добровольцы из числа сотрудников других лабораторий ИЭМ им. Пастера. Во всех случаях никаких отрицательных реакций у вакцинированных не возникало, а в их крови появлялся значительный уровень коревых антител, что говорило о безусловной эффективности вакцины.
Но всё дело в том, что, так же, как и в случае с полиомиелитом, прививки взрослым не могли свидетельствовать о безвредности прививок для детей. В данном случае роль играл фактор иммунитета к кори, которым взрослые, как правило, обладают. Если бы вакцина могла вызвать заражение ребёнка корью, то на взрослых это было не выяснить.
И вновь Анатолий Александрович решил первыми привить своих внучек: на сей раз вакцину получила не только Лена, но и её младшая сестра Лиза.
Вслед за А.А. Смородинцевым своих детей привили В. Мешалова, Т. Трегубова и Л. Тарос.
Разумеется, все сильно волновались. Но тревоги оказались напрасными: прививки прошли удачно, у детей выработались антитела, а побочных реакций, кроме незначительного подъёма температуры, не наблюдалось.
После этого А.А. Смородинцев получил разрешение Минздрава СССР на проведение вакцинации в нескольких детских садах Ленинграда. Для подстраховки вакцинация сопровождалась введением детям гамма-глобулина. Привитые дети в большинстве чувствовали себя отлично, лишь некоторые реагировали на прививку лёгкой лихорадочной реакцией и появлением небольшой сыпи.
Прививались дети под строжайшим контролем врачей-педиатров, которые вели тщательное наблюдение за привитыми.
Неприятный сюрприз принесла попытка использования вакцины без одновременного введения гамма-глобулина: у половины привитых детей (18 человек) возникла сильная ответная реакция, выражавшаяся в довольно интенсивном повышении температуры и развитии сыпи на коже.
Педиатры потребовали немедленно прекратить вакцинацию, полагая, что дети заболели корью (хоть и в более лёгкой форме). И основания полагать так у них были.
Однако учёные обратили внимание на два обстоятельства. Первое: никто из детей, находившихся с привитыми в одних группах и ранее корью не болевших (т.е. не имевших иммунитета к ней), не заболел. Такого при кори просто не могло быть. Второе: дети, несмотря на повышенную температуру и сыпь, чувствовали себя, в общем, хорошо, чего опять-таки при кори не наблюдалось (болезнь всегда протекала очень тяжело). Отсюда был сделан вывод: имеет место не коревая инфекция, а сильная реакция на вакцинный вирус (своего рода аллергия). Вывод оказался абсолютно верным – вскоре все 18 детей пришли в норму.