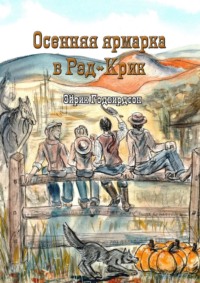Полная версия
Семиведьмие. Бронзовый котел
– К той, которая за меня пойдет, – отрезал причудливый гость, и после чего черным росчерком растаял средь листвы, сорвавшись с места.
Ох и непросто было решить отцу с матерью, как быть! И так, и этак рядили да судили – а по всему страх как не хотелось отпускать родную дочку неведомо куда, да еще и добро бы с человеком или элро, но не с лесным быком же!
И спорили бы муж с женой до хрипоты, если бы Ниив, младшая дочка, не вмешалась внезапно:
– Не спорьте, прошу. Я пойду за черного оленя. Верно, коли речи разумные он ведет и даже приданого сестрам сулит – не станет он меня обижать. Ну а если вдруг такая беда приключится – я за себя постоять сумею, не кручиньтесь! Не дело пренебрегать словами друида, коли он на добро пожелал отдариться! Не хочу я, чтоб оттого, что вам тяжело принять решение, все мы попали под какую недолю лихую! И я готова принять такую судьбу. Это мой выбор.
И сколько бы не причитала мать, мол, куда же ты, доченька, да как же так – а осталась младшая дочь тверда в решении своем.
И когда через три дня прискакал к дому снова черный олень – вышла к нему Ниив в лучшем своем наряде, поклонилась, ровно знатному господину, на золото, что, как и обещал, принес диковинный жених, даже не взглянула, но поблагодарила за доброту к ее семье.
А после олень велел ей садиться к нему на спину – и унес девушку прочь из родного дома.
Неслись они через луга, долы и темные ельники, через дубовые рощи и сосновые леса, минуя расселины скал – только мелькали перед глазами разные диковинные места, и казалось, одним прыжком покрывает черный олень расстояния, которые другому всаднику не одни сутки бы ехать пришлось. И так долго неслись, что девушка забыла примечать дорогу, устала и уснула. А к исходу дня, как золотой шар солнца стал клониться все ниже к земле, приблизились они к добротному каменному дому на краю дубовой рощи.
Хозяин дома показал девушке, где что у него есть, предложил ни в чем не стеснять себя – и, пока солнце окончательно не покинуло неба, куда-то делся, девушка и не заметила, как и когда одна осталась.
Ну, она не стала ждать – искупалась в приготовленной словно кем-то заранее бадье с теплой водой, отведала припасенных яств, да пошла легла на большую-пребольшую кровать, что в самой богато убранной комнате была. Никаких слуг в доме не обнаружилось, но девушка так устала, что думать над тем, кто все это собрал и кто нагрел воды, она едва ли стала бы. Уснула, едва коснулась головой подушки – и только среди ночи показалось ей, что на противоположный край кровати прилег другой человек.
По утру так и оказалось – смята была вторая половина широкой постели.
Ничего не сказала девушка черному оленю, как увидела его снова – и он ничего не пожелал пояснить.
Увидела она и слуг в доме наконец – то были либо причудливые существа, похожие на странных уродливых человечков ростом с семилетнего ребенка, либо разные звери и птицы. На гаэльской речи ни те, ни те не говорили, это умел только их хозяин – зато понимали слуги все, что им говорили. Меж собой общались все эти создания свистом да чириканьем, а с девушкой объяснялись жестами – выразительными и забавными.
Сыграли тут же поутру и свадьбу. Ох и странная свадьба была – прилетел ворон в накидке вроде друидской, что-то прокаркал, побросал под босые ноги девушке зерна и цветов, попрыскал вином из чаши на нее и ее супруга. Тот же, соблюдая древний обычай, накинул ей на плечи, ухватив зубами, вышитый яркий плащ, что до той поры на его спине был – и все собравшиеся домочадцы громким восторженным свистом встретили новую супружескую чету.
Ну и так стали они жить – днем черный олень пропадал где-то, а девушка дома своими делами занималась – ей помогали и развлекали ее и карлы с карлицами, и зверье – в общем, все домашние, кто был.
Год они так прожили – как один день пролетел!
И забот-то у юной жены никаких не было, кроме того, чем сама захочет себя занять, и карлицы оказались товарками веселыми да рукодельными, научилась от них Ниив всякому шитью мудреному нитками шелковыми да жемчугами, кружевами да цветами время свое занимала; делала она все то, о чем дома только и грезить могла, а того, чего не хотела, так с нее никто и не спрашивал.
А как прискучит в доме сидеть – так и карлики-мужчины соберут отрядец в охрану, посадят девушку на огромную заседланную рысь, кликнут соколов ученых – так и прогуляться, куда Ниив пожелает, свезут, и не будет нигде большей ей безопасности и спокойствия, как в такой компании.
И еще год пролетел, и еще – так прожили без малого три земных оборота охотникова дочь Ниив и олень-король здешнего лесного народа. И, хоть житье ее было радостное и привольное, и вовсе не скучное – одно тревожило юную жену: что супруг где-то вечно пропадает, а появляется только ночью, как уснет она. И за все три года так и не видела она, каков он из себя. Что ночью никакой это не олень, а вполне себе человек или элро, девушка сообразила уж – темный волос на гребне, позабытом на подушке, видела, как постель измята, примечала. Ну и как-то, было дело, забывшись в полусне, придвинулась ближе, и, когда прикоснулась – под пальцами ее оказалась гладкая теплая кожа мужского плеча, а никак не звериный шерстистый бок. Долгонько Ниив потом гадала – а отчего супруг ее скрывается от нее?
Все никак духу набраться не могла, чтоб спросить о том – но вот все же отважилась, подловила момент.
– Да, – ответил черный олень. – Тебе не кажется, как думаешь, так все и есть. Но не задавай вопросов более и не проси рассказать – до исхода года. Как кончится этот год – так расскажу я тебе все, что пожелаешь. А сейчас – никому не говори, что узнать успела, не пытайся меня увидеть – и не ищи обхода этим запретам. И тогда, клянусь, все будет прекрасно, так, что и в песне не спеть. Ты веришь мне?
Промолчала, помявшись, девушка.
– Или обманывал я когда тебя?
– Нет, не обманывал.
– Или обижал чем?
– Нет, не обижал.
– Тогда пообещай не лезть в это, ладно ли?
– Ладно… только, супруг мой, пожалуйста, хоть иногда днем не исчезай так сразу.
– Тебе скучно с домашними нашими?
– Нет, не скучно. Просто я хочу видеть тебя – хотя бы немного дольше.
– Мне казалось, тебе неприятна моя компания, и ты страшишься меня, – промолвил олень, опуская голову и заглядывая в лицо девушке.
И то сказать – правда то была, боялась девушка странного своего мужа… но в то же время – очень уж интересен был ей чем-то он, прям мочи нет, как любопытство разбирало!
– Не боюсь, – храбро сказала она, поднимая глаза, а как взглядом с черным оленем встретилась – так и обмерла вся. Поняла то, чего раньше толком и не замечала – что ну совсем не звериные глаза у него. Но, надо сказать, промолчала и все свои мысли в тайне сохранила. Решила – ну раз сказал ждать, то что же, делать нечего. Не походил черный олень на того, кому перечить можно легко и спокойно.
Теперь вот, слушаясь просьбы своей жены, черный олень не на весь день, бывало, пропадал – катал девушку по лесам, рассказывал всякие интересные вещи об этих местах, да и не только об этих – сказы о странах за морями поведал, какие знал, и вообще много всего и всякого, и нескучно им вдвоем было вовсе.
С удивлением поняла девушка, что житье ей такое по нраву – да только вот вдруг взяла ее тоска по родным – по матери да отцу, по сестрам, с которыми толком и не попрощалась, уезжая. И по родной опушке, светлой да приветливой от говорливых берез, и по запаху дома, по маминой стряпне… Пусть и стряпали карлицы на славу, и было все хорошо и вкусно, да только вот с материными ватрушками ничего не сравнится!
Ни на что особо не надеясь, обмолвилась об этом как-то.
На удивление, согласился почти сразу супруг, что домашних забывать не дело, и предложил отвезти ее в гости как-нибудь ненадолго.
Обрадовалась девушка, стала ждать, как выберет олень-супруг время, да скажет в путь готовиться.
Ну, того долго ждать не пришлось – еще до исхода лета позвал он ее в дорогу.
Снова мелькали точно так же целые лиги за один прыжок под острыми, точно бронзовый нож о двух лезвиях, копытами, проносились мимо в дикой кутерьме леса с лугами да распадками меж скал – и снова до исхода суток были они на месте. Ударил копытом олень в дверь, склонил колена, чтоб девушка спуститься легко могла с его широкой спины – да и снова умчал в чащу.
Ох и обрадовались Ниив ее сестры да мать с отцом!
За стол садили, сливок с ягодой подавали, ватрушкой медовой потчевали, за руки брали, обнимали-целовали, наглядеться не могли!
– Экая ты, сестрица, веселая да пригожая сделалась!
– Как, доченька, наряжена справно!
– Какие у тебя, Ни, жемчуга в косе вплетены!
– А руки-то, руки гладкие, точно в молоке умыты!
Отец только примечал все, пока женщины радостно трещали, точно сороки на лесовом тинге своем.
Видел – и в самом деле весела, здорова и красива пуще прежнего младшая дочка, видно, не так уж и сложно житье с оленем вышло.
Ну, расспрашивали, конечно же – как да что, да не скучно ли, да не обижает ли ее муж, да не тоскливо ли ей в его лесном краю?
Как есть все Ниив рассказала – и о карлицах потешных, и о доме каменном, и о ездовой рыси. Только о том, что муж ее никакой не зверь – умолчала, как тот и велел. Помнила наказ, не хотелось ей никакой беды для приютившего ее края и для самого лесного государя.
В ответ ей рассказали, как да что у них дома – сестры ее с той поры уже видали немало сватов – старшей вот все не по нраву приходились, следующим-то отказать никто не запрещал, а средняя уже присмотрелась, сыскался и ей пригожий супруг, к следующей осени, видно, будут свадьбу играть. Житье дома шло гладкое да справное, в охоте отцу везло, на ярмарках цену за шкурки добрую давали, так что, наверное, и в самом деле не на что жаловаться.
Наговорились – да и спать улеглись.
И на следующий день – отец на промысел пошел, а женщины по дому остались.
Ну, тут-то уж расспросов втрое стало больше, как одни они остались!
Ясно же всякому – нету существа любопытнее, чем подружки-сестрицы, когда дело дойдет о житье-бытье замужнем поговорить! Ну и мать тоже – все важно знать, точно ли доченье ее живется легко и привольно, не тяжко ли в чем, каков сам по себе супруг, да не обижает ли ее кровиночку?
– Да что вы, он очень славный и хороший, ни в чем никогда никакой обиды я не видела от него! – смеясь, отмахивалась Ниив.
– Да как же ж жить-то с таким мужем, детонька! Он же и на человека-то не похож! Этакая махина преогромная, дикая, зверь лесной!
И сестры вторят – страх какой огромный, злюще так глазами сверкает еще! А рожищи, а копытищи! Ну а силищи немерено, как и ненароком зашибет если?
Как не отнекивалась Ниив, мол, добрый он и не обидит никогда ни в чем, а заладила мать свое – не похож, мол, на славного мужчину, не человеческого роду и не элфрэйского, какая ж беда жить-то с таким!
Уж как тут обидно стало Ниив, как досадно!
И позабыла наказы всякие, с обиды-то.
Не утерпела, сказала, мол, что только днем он дикий зверь, а ночью вполне себе мужчина как мужчина.
Сперва обрадовалась мать, да и сестры – но тут их пуще прежнего любопытство взяло – ну а каков из себя, ну а что, ну а как, а почему, а так ли, а эдак ли?
Ниив уже и не рада была, что проболталась – сказать-то нечего!
Ну как она пояснит, отчего не видела никогда его лица, и какой он из себя, знать не знает?
Ну что ж, деваться некуда, потихонечку выложила под расспросами девушка все, как есть, да пожаловалась – вот бы правда, посмотреть хоть одним глазком, какой он с лица-то, супруг ее?
Потому что – ну ведь понятно же – и самой ей ужасно любопытно было, и истомилась этой неизвестностью девичье любопытное сердечко сил нету как. А тут еще домашние масла подлили в пламя пытливости ее!
– Глубока темнота, ничего не разглядишь, когда приходит! А пока свечи не потушу, не явится! – пожаловалась девушка.
– А ты спрячь под подушкой огарочек свечи да огниво, дождись, как уснет – ну и потихонечку глянь! Никто ж и не узнает! – посоветовала мать. – Ну а то видано ли дело, не знать, с кем супружеские узы тебя соединили!
И, хоть и совестно девушке было, а все равно решила она – так и сделает. Уж больно разбирало любопытство ее.
И вот – вышел срок гостевания в родительском доме, вернулся за Ниив ее супруг, отнес обратно домой.
И в первую же ночь, как стала ложиться, девушка вспомнила материн совет. Припрятала огниво, да и свечку не забыла, и стала ждать, притворившись спящей.
В положенное время, когда была темна, точно густой звериный мех, ночная тьма, раздался легкий хлопок двери, неспешные шаги, шорох снимаемой одежды, а после – прогнулась под тяжестью опустившегося на нее тела вторая половина кровати.
Очень скоро дыхание лежащего рядом стало глубоким, медленным и ровным – так только глубоко спящие дышат.
Тут-то Ниив быстро села, вытащила припасенную свечку, чиркнула, торопясь, огнивом – сразу получилось поймать искру, хоть и тряслись руки с нетерпения. Затеплился огонек, прикрываемый ладонью, и, замирая, прошла любопытная жена ко второй половине кровати.
Свет озарил спящего, и едва сдержала девушка изумленный вздох – лежал на простынях мужчина столь прекрасный, что слов описать не нашлось бы! По всему видно – принц или король, и великий воин при том.
Никогда не видела Ниив столь благородных черт и столь совершенного тела, и оттого сердце ее забилось так часто, что казалось – вот-вот из груди выпрыгнет, а самой ей безумно захотелось поцеловать его сию же секунду.
– О, как хорош собой мой супруг! – воскликнула она в волнении столь сильном, что руки начали у нее дрожать, и, на беду, так сильно, что сорвалась со свечи капля горячего воска и упала на плечо спящего.
Тот вздрогнул и проснулся.
– Что же ты наделала, Ниив, – горько молвил он, увидев склонившуюся над ним девушку со свечой. – Всего-то ничего подождать оставалось, и был бы я твоим навечно, как и ты – моей, но теперь же…
– Что теперь?
– Теперь нам придется расстаться, и, боюсь, навсегда. На мне и всем моем королевстве лежит страшное проклятье, и сроку ему оставалось – до конца года. Днем я был оленем, а ночью – самим собой, но никто меня не должен был видеть. Но и не жениться мне было нельзя – коли не нашлось бы до конца этого же года девушки, что пошла бы за меня – остался бы я зверем навечно. А теперь твое любопытство погубило все! Злые чары заберут меня далеко на север, где поднимаются горы на границе моей земли и неба, и там сидит в моем прежнем замке страшная черная ведьма, что прокляла меня. Теперь она сделает со мной, что пожелает, а все мое королевство достанется ей. Прощай, Ниив. Больше мы никогда не увидимся!
Только договорил он, как налетел страшной силы ветер, закружил все, и, казалось, начал сам дом рушиться, а ветер подхватывал камни и перебрасывать их, играя.
Зажмурилась несчастная Ниив крепко-крепко, закрыла голову руками и в тот же момент разум ее померк, точно окунули девушку в глубочайший сон какими чарами.
Когда пришла она в себя, то не было уже ни дома, ни знакомой полянки, и оказалось, что лежит она посреди какой-то неприветливой прогалины в глухом ельнике, сумеречно вокруг, так что неясно – то день такой непогожий или же сумерки собираются? Да еще туман наползает седыми клочьями
Огляделась Ниив, да приметила тропку – ровно серая нитка пряжи, меж папоротников затерявшаяся!
Ухватилась за нее – и пошла вперед, не сидеть же среди леса босой да одетой лишь в одну рубашку!
Сколько шла она – незнамо то, но ноги исколола, устала, и чуть не плакала уже с досады, страху и боли, когда впереди затеплился живой яркий огонек, рыжий, как кленовый листок во мхах.
Собрала остатки сил – и устремилась к нему, такому долгожданному. Вот, глядь – вырос огонек, оборотился окошком избушки такой крохотной, что, казалось, выросла та избушка-землянка сама, ровно гриб после дождя, оттого приземиста и неказиста, шляпка кривая, стенки мхом обросли… а все жилье, да не нечисти какой – вон, над входом и «тривершие Лорахо» прицеплено, странное, из веток да трав с камушками какими-то сплетенное, а все же – оно, натурально. 3
Не успела Ни в дверь постучать, как та сама раскрылась перед ней, а из глубины домашнего тепла, что пахнуло из налитой светом очага утробы дома, раздался скрипучий, но приветливый голос:
– О, гляди-ка, живая душа на огонек забрела! Заходи, милая, заходи, уж темнеет, да ты, верно, притомилась… издалека ли идешь?
Ниив шагнула внутрь и увидела крохотную сгорбленную старуху с волосами, что паутина, белыми да клочковатыми, и носом таким длинным и острым, что та старуха им в очаге мешала угли, точно кочергой.
– Издалека, наверное, бабушка…
– Чаво, милая, потерялась, штоль?
– Да, – вздохнула Ни, – потерялась, совсем потерялась!
Старуха была ласкова и приветлива с девушкой, накормила, напоила, одежды выдала из своих запасов, крепкой и ноской, зеленое с голубым, как дома Ни привыкла носить.
А в ответ девушка поведала все, что с нею приключилось.
– Охохохохо! Ну и в историю ты попала, милая! – заохала старуха. – Как же угораздило тебя… муж твой – это ж в самом деле король всей здешней земли, от окраины моего леса и до ледяных гор на севере! И теперь изведет его черная злая ведьма!
– Так что же мне делать? Неужели никак помочь нельзя?
– Помочь-то? Помочь, милая, всегда можно, да только хватит ли у тебя духу на то? Это не прогулка за ромашками будет, совсем!
– Готова, бабушка! На все готова! Я все испортила – мне и поправлять!
– На все? Да знаешь ли ты, на что обрекаешь себя, прежде чем словами такими бросаться?
– Я люблю его! И я хочу вернуть своего мужа! Я не только свою судьбу на клочки разломала, так тем более не могу отступиться. Как бы так снова склеить то, что разбито?
– Склеить, милая, никак. Судьба – это тебе не миска и не горшок! Судьба – она как полотно из нитей разных – где яркая, нарядная, пестрая, где простая серая, а где черная, как боль… Склеить – никак. А вот новую нитку выпрясть и ею разрыв зашить – то можно. Но, повторю я, то будет так сложно и так тяжело, что никто, кроме тебя самой, не сможет у тебя этого испросить.
– Я согласна, только скажи, знаешь ли, как мне быть?
– Ну слушай, храбрая. На свою голову спросила – теперь слушай! – и старуха, сплеснув крыльями старой, серой, что перья зимней совы, шали, подскочила на месте. Метнулась по стене ее тень, огромная и изломанная – да не напугалась Ниив ни капли. Не осталось места для страха в девичьем сердце уже, верно.
– Слушай! – крикнула старуха, и голос ее возвысился, став гулким и грозным, точно порыв ветра в вершинах древних елей. – Муж твой – под властью черной ведьмы Ангарвы, и прикован теперь он к скале, на самом высоком пике из гор, что далеко на севере! Обращенный в черного оленя, день и ночь он силится сбросить зачарованную цепь с себя и умчаться прочь – но стерегут его злые собаки ведьмы Ангарвы! Только тот смог бы помочь, кто знал бы, как одолеть колдовских собак и снять зачарованную цепь, но ничем той цепи не разбить, кроме как разрыв-травой синецветной. Траву эту тоже добыть наука мудреная – долго идти за нею, за небывалою. Синяя та трава вся, целиком – выросла она там, где неба кусок на землю упал, оттого и цвета – небесного. Поет трава и днем и ночью, выплетает заклинания, что могут одолеть замки и препоны любые, что меняют пути и прядут новые нити в ткани судеб, разрывая прежнее, спутанное да неказистое. Срезать траву эту можно лишь золотым лезвием, на которое чары накладывали три дня и три ночи, чтоб победить природную мягкость золота и заставить светоносный металл стать крепче, чем слезы скал! Ибо трава эта, Синецветной прозываемая, грозовой травой и разрыв-травой, поет и днем и ночью и крушит любые запоры, любые путы разбивает, меняет пути и крошит железо, как сухую листву в горсти! 4
Ничем ее не взять, кроме этого клинка!
Старуха металась, как залетевшая в дом сова, перед огнем очага, размахивая руками и сверкая глазами – и голос ее то взмывал вверх, как коршун под облака, то падал до шипящего ужом в траве шепота.
– Тяжело будет найти траву, непросто запомнить, какое заклинание поет Синецветная – без него, хоть весь луг выкоси, не отомкнет и скотной калитки эта трава, и еще тяжелее – сыскать дорогу к той самой вершине, где в злом полоне томится олень-король. Укрывать станет ведьма пути, путать тропы – но упрямое сердце да отыщет дорогу и не убоится тяжкой дороги наверх, по скалам, где только горные козы вольготно скачут.
Сумеет и злых псов победить – золотой клинок, коим траву добывать потребно, и против зверя справен, коли не робеть… клинок этот – второй ключ к свободе, и без него, как и без разрыв-травы, делать там нечего будет. Не думай, что довольно будет просто травяным пучком помахать потом да разрывные слова сказать – цепь-то падет, да только вот…
Старуха выцепила из печи уголек, покатала в ладони, остужая – и принялась размашисто чертить прямо на стене, приговаривая:
– Собаки Ангарвы не просто стерегут оленя. Кидаются они на заколдованного без устали, клацают страшными зубищами, рвут в клочья блестящую черную шкуру каждый день – а за ночь заживают нанесенные ими раны, и все начинается заново. И чем больше мучают его псы, тем меньше остается в черном олене от короля, тем больше он забывает, кто он есть, и рано или поздно станет он просто зверем, и тогда загрызут его собаки совсем.
Вторя словам, бегут по серой стене линии рисунка – оскаленные песьи морды, вставший на дыбы олень, стремительная мощь в едином рывке. Старуха поворотилась к замершей девушке и сверкнула круглыми желтыми глазищами, точно молния в них отразилась:
– Не узнает он спасителя своего, за еще одного врага примет – и кинется, насмерть стараясь сразить. Острые копыта, что бронзовый клинок, еще острее рога, а боли и отчаяния – выше горного пика! Тебе придется сразиться с ним. И победить – иначе не одолеть злых чар. Свой золотой клинок вгонишь прямо в сердце оленя, вот сюда, – старухин кривой палец ткнулся в рисунок, под поднятое копыто нарисованного зверя. – Ибо чары ведьмины клеткой вокруг него сомкнулись. Клинок, что режет даже разрыв-траву, клинок, заклятый три дня и три ночи, сможет их одолеть. Рухнут чары, и, если ты в самом деле его крепко любишь, муж твой встанет, жив, цел и невредим, и свободен от любого колдовства.
– Но если он умрет? Ведь олень – это ж он сам и есть!
– Если умрет – значит, недостаточно ты его любила, – отрезала старуха мрачно. – Ну так что, возьмешься за это страшное и непростое дело?
– Где взять золотой клинок можно, о котором говорила ты, почтенная?
Старуха каркающее рассмеялась:
– Отчаянная! А есть у меня он, есть! От Ангарвы и прятала, и все молила сокрытых, чтоб не стал никогда потребен он, но что уж делать… сама в пряже напутала, сама и разбирай теперь! Клинок этот я тебе дам, и тропку отсюда покажу поутру – но помни, что второй раз ошибиться или отступить права у тебя нету! Повернешь назад, отступишься, замешкаешь – не видать тебе мужа твоего! А королевство его все Ангарве достанется. Иль не поняла еще – все те карлики да карлицы, да звери разумные – то все люди под чарами ее злобными.
– Поняла бабушка, поняла… да только даже если бы за ним одним идти надо было хоть за самое северное море – так пошла бы.
– Ну-ну… отчаянное сердечко. Авось и сможешь – но силы, сколько у тебя есть, все понадобятся. И еще немножко сверху. А теперь спи давай, завтра коли в путь.
И со словами этими загасила старуха свечной огарок и заслонила очаг с дотлевшими уже угольями.
А поутру в самом деле выволокла из чулана старуха какой-то сверток, долго его распаковывала, а потом вручила Ниив клинок – чистое золото, но тверже слез скальных, острее любого другого клинка, что когда-либо из-под рук гаэльского кузнеца мог выйти!
Вывела на тропку, дала с собой узелок со скудным припасом в путь – и махнула рукой, иди, мол. Ниив и пошла – не оглядываясь, как старуха и велела.
То таяла тропинка средь зарослей, то снова становилась широка, и петляла, ровно убежать из-под ног норовила – а вцепилась в нее юная путница, ни за что не потерять чтоб, так крепко, что как та ни вилась, не смогла вывернуться.
Долго шла Ниив, так долго, что счет дням потеряла да начисто плакать разучилась. А про то, что ноги болят, так и вовсе вспоминать забыла, скорее, удивилась бы, если б те перестали ныть, как пудовыми чушками чугунными обвешанные. Лес миновала, поле перешла, по холмам петляла, еще один лес и еще луг раздольный, семь речек позади и три озера – ан не встретила нигде ни самой травы, ни того, кто бы слышал о ней, синецветной разрыв-траве, что поет и днем и ночью и крушит любые запоры, любые путы разбивает, что меняет пути и крошит железо, как сухую листву в горсти.
Бродила так она, пока не выцвели от дождей да солнца ее одежды, пока не стали рассыпаться в прах башмаки, да почти не позабыла гаэльскую речь живую, а больше разуметь стала, о чем звери да птицы переговариваются.