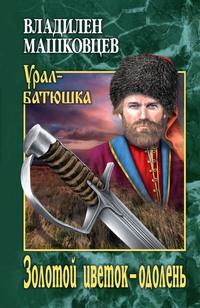Полная версия
Время красного дракона
Фроська наполнила из графина стакан холодной водой и выплеснула его резко, с обезьяньей ужимкой, в лицо Порошина.
– Ты что, дура, рехнулась? – недоумевал он, утираясь углом больничной простыни, пропечатанной регистрационными штампами.
– Я огнь погасила! – ернически скривилась Фроська.
– Какой огнь?
– Черный!
В дверь палаты стукнули интеллигентно, трижды.
– Наверно, Гейнеман с Трубочистом, – встал с кровати Порошин.
– Входите, господа-товарищи, – оправила подол юбки Фроська.
В палату вошел Трубочист с детской игрушкой-куклой, у которой была оторвана голова.
– Я ухожу! До встречи при луне! – выскользнула за дверь Фроська. Порошин очистил апельсин, разломил его на дольки, бросил небрежно в треснувшее голубое блюдце на тумбе, посмотрел на куклу:
– Что это означает?
– Голову кукле оторвали при обыске…
– Что могло быть в голове куклы?
Трубочист жил в одной квартире с Гейнеманом. Многим было странно видеть, что освободившийся заключенный поселился у начальника колонии. Но ведь и директор завода Завенягин пригрел в своем особняке бывшего зэка Боголюбова. Впрочем, Трубочист не походил на тех, кто побывал в концлагере. Одет он был изысканно, элегантно: голубые полуботинки из крокодиловой кожи, светло-голубой костюм изящного покроя, ослепительно снежная манишка с бабочкой синего цвета – в белую горошину. Изможденное лицо его помолодело, орлиный нос возгорделивился, а седые волосы создавали эффект значительности.
– Ты похож на профессора, Трубочист, – сказал Порошин, чтобы не уточнять, где, когда и при каком обыске отделена голова у куклы.
И очень уж кукла походила на Фроську, неприятно было видеть ее оторванную голову. А Трубочист, будто издевался над Порошиным, как бы накаркивал что-то провидчески, перебрасывая из ладони в ладонь рыжеволосую голову куклы.
– Я и есть профессор, – выдержав паузу, ответил Трубочист.
– Как вдруг так?
– Не вдруг, у себя на родине я преподавал довольно сложный предмет.
– Какой?
– Интегральные функции вероятности в экстраполяции биологических полей.
– На какой родине, дорогой Трубочист, ты преподавал этот предмет?
– На планете Танаит.
– Извини, я запамятовал, что ты считаешь себя Пришельцем из астромира, из космоса, с другой звезды.
– Я не считаю, Аркадий Иванович, а так оно и есть!
– Чем это можно доказать, удостоверить?
– Очень многим.
– Конкретно, Трубочист.
– Я могу перемещаться во времени.
– А другого человека ты можешь взять с собой?
– Могу, но не вас, Аркадий Иванович.
– Так-то мне, Трубочист, любой псих может заявить, будто он прилетел с альфа Центавры.
– На планетах альфа Центавры нет существа, подобного человеку. И земная атмосфера не подходит для них. Они прилетают к вам в скафандрах. А жители Танаит в биологической модели эквиваленты землянам.
– Значит, танаитяне смертны?
– Не совсем так. Мы можем оставить оболочку, тело и улететь по любой координате: в прошлое, в будущее. При выполнении своей миссии мы возвращаемся на планету Танаит.
– А у нас на земле имеются такие индивиды, которые способны перемещаться во времени? Скажем, взял и перелетел в 1612 год, во времена Смуты? Или к Петру Великому – на царский пир!
– Из каждых десяти миллионов одна личность способна на это.
– А в будущее летают?
– Нет, ни один человек на Земле никогда не сможет побывать в будущем. Но у вас на земном шаре загадок и чудес больше, чем у нас.
– Что у нас есть загадочное?
– Ваши колдуны и колдуньи.
– Я, милый мой Трубочист, не встречал в жизни ни одного колдуна, ни одной колдуньи.
– Но ваша Фрося – колдунья.
– В лирическом плане – волшебница.
– Она колдунья!
– Твои сказки, Трубочист, наивны. Я материалист. Материя первична!
– Материя не может быть первичной.
– По-твоему, первичен дух?
– Дух тоже не первичен.
– Ты дуалист? Но до тебя, Трубочист, были Декарт и Кант.
– Ваши великие дуалисты Декарт и Кант были ближе к истине, чем Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Ленин – вообще не философ, он примитивен.
– Ты можешь, Трубочист, доказать мне, что материя не первична? И не философским словоблудием, а одним кратким примером? И четкой пирамидой логики!
– Пожалуйста! Способность атома железа присоединять к себе два или три атома кислорода у вас называется валентностью. И это свойство материи не вторично. Частица и поле единовременны. А поле как возможность соединения – не материя, а запрограммированность. Без этого в мире господствовал бы хаос, не было бы и жизни. Сознание не вторично, это всего лишь результат запрограммированных соединений.
– С этим можно и согласиться.
– Но при этом рушится постулат о первичности материи.
– Черт с ним!
– Сознание и речь – не высшая ступень бытия. Высшая категория – дух, душа. Сознание является частью духа, его ничтожной долей. А душа – это и ощущение тела, и причастность к вечности, и вера, и энергетический сгусток, способный отделяться от оболочки.
– По-моему, я уже и раньше соглашался с этим…
– Люди часто теряют и губят свои души. Души с вашей планеты похищаются обитателями Черной звезды. Они транспортируют их по своей астротрубе десятками и сотнями тысяч.
– Для чего им нужны наши души?
– Каждая душа состоит примерно из восемнадцати миллиардов бионов. Обитатели Черной звезды не воспроизводят сами эти частицы. И они давно бы погибли, вымерли – без подпитки вашими бионами. Мы, танаитяне, прилетели к вам, чтобы предупредить вас об опасности. Бесы с Черной звезды всесильны только над душами, которые не защищены верой, опалены черным огнем зависти, братоубийства, ненависти, лжи…
Порошин рассмеялся:
– Ха-ха! Не так уж ты и загадочен, Трубочист! Может быть, материя не первична. Ты меня давно в этом убедил. Но человек и не живет этой проблемой. Согласен и в том, что дух выше сознания. Еще раз подтверждаю: вполне можно представить душу энергетическим сгустком, способным отделиться от тела. Но ведь все остальное у тебя – нечто среднее между ахинеей и околонаучной фантастикой. И не так уж безобидно все это звучит. Черный огонь зависти, братоубийства, безбожия разжигают, разумеется, коммунисты. Нет, родной мой Трубочист, не зря тебя пытались уморить в концлагере. Ты изощренный антисоветчик, контра. И напрасно ты рядишься в одежды чудака, фантазера, полупомешанного.
Трубочист съехидничал:
– Вы советуете мне, Аркадий Иванович, явиться в НКВД с повинной?
– Я советую тебе, Трубочист, ни с кем не говорить на эти темы. Тебя ведь схватят и расстреляют. А мне тебя жалко. Есть в тебе что-то интересное, притягательное. И нельзя тебе квартировать у Гейнемана. Мишку за связь с тобой могут замести. Ты уж пожалей моего товарища.
– Тогда и вам, Аркадий Иванович, опасно со мной якшаться: заметут.
– Меня, Трубочист мой дорогой, не заметут. Я сам – из тех, кто заметает. Шевельну пальцем – и ты исчезнешь!
Гейнеман вошел в больничную палату боком, с охапкой кульков и свертков, он услышал последнюю фразу Порошина и сразу отреагировал:
– Чего расхвастался? «Шевельну пальцем – и ты исчезнешь!» Как бы не получилось наоборот, Аркаша. Трубочист слегка шевельнет своей волшебной тросточкой – и ты исчезнешь!
– Пусть на себе сначала проверит свою тросточку…
– Пожалуйста! – согласился Трубочист.
Он крутнул трость вокруг поднятой правой руки, притопнул и спрятался за спину Гейнемана. Но Гейнеман шагнул к тумбочке, чтобы уложить в нее принесенные кульки. Трубочиста в палате не было, он исчез, испарился. Порошин заглянул под кровать. Что за чертовщина? Под кроватью валялась безголовая кукла.
– Мишка, куда он делся? – жалко спросил Аркадий Иванович.
– Кто?
– Фокусник твой, Трубочист.
– Не знаю, Аркаша. Впрочем, я вижу его в окно. Он махнул мне рукой. К нему подошли двое, ты их знаешь…
– Кто? – выглянул в окно и Порошин.
В больничном скверике стояли Трубочист, тюремный водовоз Ахмет и нищий, похожий на Ленина. Аркадий Иванович отошел от окна, присел на табурет:
– Где он берет деньги, чтобы одеваться так аристократически?
– Аркаша, Трубочист получает у Завенягина большую зарплату. Он же специалист по высотным трубам, редкий специалист. И побочно занимается кладоискательством. Недавно нашел горшок с царскими золотыми червонцами.
– Где нашел?
– На кладбище.
– Любопытно.
– Что уж тут любопытного? Каждый ищет что-то в жизни по призванию. Вы пулемет нашли. А он – корчажку с червонцами.
– Как у тебя дела, Миша?
– Плохо, Аркаша.
– Какие-то неприятности?
– Приходится расстреливать заключенных – сотнями, тысячами.
– Указание сверху?
– Придорогину и Соронину надо выполнять план, разнарядку по разоблачению врагов народа. Хватают они и металлургов, и строителей. Но там тяжело: Завенягин и Валериус свои кадры обороняют. А спецпереселенцы и мои зэки беззащитны. Вот и раскрывают чекисты «заговоры» то в спецпоселках, то в казачьей станице, то у меня в колонии. Приходится молчать, хотя и дураку видно, что все контрреволюционные организации – липа!
– А может, Мишка, так лучше? Твои доходяги в любом случае обречены. Да ведь у тебя и не ангелы, а кулаки, вредители, враги народа. Своей смертью они спасут от гибели сотни невинных людей. Может быть, Придорогин и Соронин доброе дело вершат? Надо подумать, Миша.
– Аркаша, нету у меня в концлагере вредителей. Ни одного нет! И никаких врагов народа нет. Ну, может быть, пять-шесть умных идейных противников режима: из эсеров, священнослужителей, дворян. Не больше пяти-шести человек на десять тысяч.
– Не поверю, Миша. У тебя в колонии одних только раскулаченных семь-восемь тысяч. Все они люто ненавидят советскую власть. И мы никогда их не сломим, не перевоспитаем. Они не сдадутся. А если враг не сдается – его уничтожают!
– Но ты сам загорал в Бутырке.
– Я был арестован без оснований. Просидел не так уж много. У меня нет претензий к советской власти.
– А твой батюшка, Аркаша?
– Отца должны освободить, уверен в этом. Я написал письма… А если он там озлобился, стал врагом социализма, то я не имею права работать в органах НКВД. Уйду в грузчики или в говновозы.
– Кому ты направил письма?
– Молотову, Ягоде.
– А как мама? Что пишет?
– Горюет, болеет, зовет в гости. Выйду из больницы, возьму отпуск, поеду к ней вместе с Фросей.
– Я тоже, Аркаша, скоро женюсь.
– На ком?
– У меня богатый выбор: две невесты!
– Я их знаю?
– Да, встречал.
– Скажи – кто?
– Олимпова и Лещинская.
– Мишка, но Лещинская-то страхоморденькая. А Мариша Олимпова – чудо!
– На ней я и женюсь!
После ухода Гейнемана в палате появилась Партина Ухватова. В красной косынке, длинная, костлявая – выглядела она нелепо, но со значением. Настоящее имя у нее было Прасковья. Но она полагала, что с таким именем нельзя было работать в комсомольских и партийных органах. Коммунисты называли своих дочерей Октябринами, Тракторинами, Свердлинами, а сыновей – Виленами, Ленсталями, Спартаками, Кимами… Придорогин разрешил Параше сменить имя. Правда, она стремилась изменить и фамилию, стать Партиной Коммунистической. Но начальник НКВД не согласился:
– Прояви себя сначала, Параша. Тогда дадим разрешение на фамилию Социалистическая. Хорошо будет звучать – Партина Социалистическая. А пока шлепай Партиной Ухватовой.
Параша при знакомствах называла обычно свою будущую фамилию:
– Партина Социалистическая!
– Партина Свололистическая! – дразнили ее в городе.
Порошин удивился приходу Партины. Он и видел-то ее мельком всего три-четыре раза, никогда не разговаривал с ней.
– Здрасьте, Аркадий Ваныч. Как здоровье?
– Здравствуйте, Партина.
– Я к вам от райкома комсомола с восторгом…
– С чем?
– С восторгом! Мы взяли шефство над молодыми сотрудниками НКВД. Вы, как известно, совершили подвиг, сражаясь с лютыми врагами народа. И пострадали героически разбитой головой…
– Партина, никакого подвига я не совершал.
– Скромность в большевиках – качество. Я решила стать вашей женой, Аркадий Ваныч. Первую нашу дочь мы назовем Марксиной, вторую – Энгельсиной…
– Партина, мы не знаем друг друга. И у меня другие планы, я никогда не испытывал к вам симпатии.
– Нет, нет! Вы не отобьетесь от моих благородных движений. У вас повреждена голова. Вы пока не в состоянии оценить мою комсомольско-девическую жертвенность.
– Партина, не ставьте себя в неудобное положение. Мы никогда не будем мужем и женой.
– Но половые отношения без оформления брака безнравственны, Аркадий Ваныч. Считайте, что вы уже – мой супруг!
– Партина, я отказываюсь от этого счастья категорически.
– Но я уже объявила в райкоме комсомола о нашей свадьбе. Вы обязаны вступить со мной в половые отношения.
– Извините, Партина, но вы просто не в себе. Я не собираюсь вступать вами ни в какие отношения.
– Зачем же вы на меня посмотрели там – в редакции газеты?
– Партина, я не помню даже, что посмотрел на вас.
– А какой это был взгляд! У меня есть свидетели!
– Какой взгляд!
– Соблазняющий, вы меня раздели тогда глазами догола.
– Милая Партина, ей-богу, вы ошиблись.
– Нет, я своего решения не изменю: мы – муж и жена.
– Партина, вам надо обратиться к доктору Функу – психиатру.
– Это у вас голова повреждена. А я в здравии. Можно сказать, вам привалило счастье. А вы судьбу отвергли. Жалко мне вас. Всю жизнь будете сожалеть опосля. В ноги мне упадете, но я уже не соглашусь стать вашей женой. Считайте, что я подала на вечный развод. Прощайте, неблагодарный!
Партина Ухватова ушла, гордо выпрямясь, со слезами на глазах. Порошин долго не мог поверить, что он не разыгран, не вовлечен в какой-то комический спектакль. К вечеру у него поднялась температура, разболелась голова. А к нему пришла какая-то девочка:
– Фрося вам пельмени горячие передала, я соседка ее – Вера Телегина.
– Спасибо, спасибо, – взял Аркадий Иванович горшок, укутанный в шаль.
Он не запомнил ни девочки, ни ее имени и фамилии, не притронулся к пельменям. Ему сделали укол, дали снотворного, и он успокоился, уснул, обнимая подушку. Проснулся Порошин в полночь от легкого постука, то ли в окно, то ли в дверь. Он сбросил байковое одеяло, опустил ноги на махровый половичок, огляделся. В палате было сумеречно, за дверями в коридоре тишина, значит – дежурная медсестра спала на диване.
За окном желтелась миражно наркотическая луна. Аркадий Иванович подкрался к двери, приоткрыл ее, выглянул в коридор. Там никого не было. Кто же стучал? В палате густилась духота, запахи лекарства и бинтов. Он подошел к окну, взялся за створки, распахнул их, облокотился о подоконник. И зажмурился от хмельного ощущения прохлады, тающей свежести, ранней весны. А когда вновь открыл глаза, обомлел… Прямо вплотную к окну, к подоконнику, прижималось корыто, в котором сидела Фроська. Она приложила палец к губам: мол, тише! И полезла в окно. Порошин помог ей перелезть через подоконник и начал обнимать ее, целовать, приговаривая шепотом:
– Фроська, я тебя люблю. А ты меня любишь?
– Люблю.
– Тогда снимай штаны.
– На мне панталоны царицы.
– Зачем же ты их напялила?
– Штоб тебя соблазнить.
– Ох и дура ты, Фроська.
– Умная была бы, не влюбилась бы в тебя.
– Торопись, Фрося, у тебя есть соперница.
– Верочка?
– Какая Верочка?
– Верочка Телегина, которая пельмени тебе принесла.
– Не знаю никакой Верочки. Никто мне пельменей не приносил. Твоя соперница – Партина Ухватова.
– Аркаша, я до полной нагишности разболокаюсь, для соблазнения…
Такой уж получилась у них первая медовая ночь. Они прообнимались, прошептались до первых петухов. И только перед рассветом нечаянно уснули. Дежурная медсестра застала их спящими в обнимку на одноместной кровати, закричала, позвала врача. Прибежали и больные из других палат.
– Вы как сюда попали, девушка? – пробурчал доктор, протирая то свои заспанные глаза, то очки.
– Через окно, – показала признательно Фроська.
Медсестра свесилась грудью через подоконник, глянула по сторонам, вверх, осмотрела сквер:
– Лестницы нет.
– Я на корыте прилетела, – продолжала давать показания нарушительница покоя и режима больницы.
Врач тоже выглянул в окно: высоко, третий этаж. Но можно ведь опуститься на веревке с крыши.
– Зачем рисковали, девушка? Вы могли разбиться. Эх, зелено-молодо!
– Я прилетела на корыте, – оправдывалась Фроська.
– Можно и корыто спустить с крыши на веревках, голь на выдумки хитра.
Старичок из соседней палаты возмущался:
– Ну и молодежь пошла! Для чего мы революцию делали? Полная деградация, зарубежное влияние, буржуазная безнравственность!
Раздавались и другие выкрики:
– А его в отдельной палате поместили!
– Оторвался от народа.
– Он и в столовую не ходит, брезгует супом, сваренным для рабочего класса и больных ударников.
– Книжки читает, глядишь – и наденет шляпу, очки…
– Трусы-то, шлюха, подбери! Разостлала их, вишь, на полу, быко политическу карту мира.
Медсестра выговаривала Порошину:
– Мы вас за серьезное начальство принимали, за руководство ответственное из НКВД. А вы кем оказались?
Порошин молчал. А больные из других палат все так же толпились у дверей, хихикали мерзко.
– О безобразии мы сообщим по месту службы, работы, – подвел итоги дежурный врач.
Кончилось все тем, что Фроську выпроводили, сунув ей в руки панталоны императрицы. А к обеду и Аркадия Ивановича выписали из больницы за грубое нарушение режима. Гейнеман и Трубочист ухохотались до слез, слушая серьезный рассказ Порошина о своем несчастье. О чрезвычайном происшествии стало известно и в горкоме партии. Новый секретарь Рафаэль Хитаров отшутился:
– Любовь неподсудна!
Предложение об увольнении горкомовской буфетчицы за моральное разложение он отклонил. Мол, на качество приготовления пищи это не повлияет. В НКВД недостойное поведение Порошина обсудили на объединенном собрании коммунистов и комсомольцев. Младшие лейтенанты Бурдин, Двойников, Степанов потребовали изгнания развратника из органов милиции. Пушков и Груздев сказали, что можно обойтись строгим выговором. Придорогин посоветовал ограничиться выговором без занесения в учетную карточку. Мнение начальства – закон для подчиненного. На этом и определились. На Порошина после этого посыпались доносы. Был сигнал, будто он совратил, кроме горкомовской буфетчицы, еще двух девушек: Партину Ухватову и какую-то Верочку Телегину, а также развратничал со своими осведомительницами – Жулешковой и Лещинской…
Придорогину нравился Порошин. Начальник НКВД отправил его на полгода в командировку, чтобы утихли страсти. По запросу во Владивостоке требовались опытные и не очень примелькавшиеся оперативники. Контрабандисты там наладили вывоз золота в зарубежье. Из Москвы в Челябинск поступило распоряжение: выделить в помощь дальневосточникам двух лучших сыщиков. Сбагривая Порошина, хитрый Придорогин надеялся прихлестнуть за Фроськой, склонить ее к сожительству. Глаз у него лег на девку. А своя жена осточертела – мослатая, лицо лошадиное, скандальная, противная. Не баба, а коровья смерть. Поэтому и мысли копошились такие:
– Зачем я женился на этой чувырле? А горкомовская буфетчица оказалась штучкой! Невинную девицу разыгрывала… А в страсти на третий этаж вскарабкалась! Загляну-ка я к ней как-нибудь вечером в хату – с подарками, с бутылкой вина.
Цветь двенадцатая
Федор Иванович Голубицкий – начальник обжимного цеха – был членом горкома партии, поэтому изредка выполнял партийные поручения. Новый секретарь окружкома Рафаэль Хитаров попросил его разобраться с письмом секретаря партийной организации автопарка – Маркина. Правда, письмо было адресовано не горкому партии, а НКВД. Парторг Маркин сообщал, что начальник автохозяйства бывший эсер Андрей Иванович Сулимов является врагом народа, группирует вокруг себя махновцев, готовит антисоветское восстание. Начальник НКВД направил письмо Маркина в горком партии не просто так… Придорогину хотелось испытать новоявленного партийного лидера – Хитарова. Как он среагирует? Какие примет меры? Неужели, как и Ломинадзе, Завенягин, будет прикрывать и защищать тех, кого надо арестовывать без раздумья?
Рафаэль Хитаров был личностью известной в стране и даже знаменитой. Ему, армянину, пришлось бежать в годы Гражданской войны от грузинских меньшевиков в Германию. Там он участвовал в революционном движении шахтеров. Позднее Хитаров работал в КИМе, направлялся в Китай, перед приездом в Магнитку возглавлял партийную организацию Кузнецка. Рафаэль Мовсесович знал несколько иностранных языков, был блистательным оратором, обладал даром журналиста, литератора. Вся иностранная диаспора в Магнитке, коммунисты Германии, Польши, Бельгии, Франции, хорошо знали Хитарова. А их, коммунистов-иностранцев, в это время загоняли в концлагеря сотнями и тысячами, подозревая в шпионаже и вредительстве. Хитаров свалился, как спаситель с неба. Он приглашал Придорогина в горком и требовал:
– Немедленно освободите Курта, он настоящий коммунист, я знаю его по Руру. Ручаюсь за него!
Освободите – Курта, Мишеля, Вильгельма, Фридриха, Христофора! Господи! Придорогин и сам понимал, что все эти Мишели и Христофоры – не шпионы. Но кого брать вместо них? Петровых, Ивановых, Кузнецовых? Нет, Ломинадзе был гораздо лучше. Он не осмеливался звонить Ягоде. А этот нахальный армяшка вообще распоясался: кричит в телефонную трубку на всю страну, обвиняя НКВД. Придорогин лично слышал:
– Генрих, привет! Помоги по дружбе. У тебя тут начальник НКВД – дурак! Он арестовывает испытанных коммунистов!
Ягода отвечал уклончиво, но иногда принимал сторону Хитарова. И приходилось освобождать этих инострашек – Куртов и Фридрихов, а вместо них брать Сидоровых и Ахметзяновых. Хитаров не чуял основной линии партии, государства – на усиление борьбы с врагами народа.
– Спорим на две бутылки, что Хитаров сообщник вредителей, – говорил прокурор Соронин начальнику НКВД.
Придорогин от пари воздержался. Он решил проверить Хитарова на сигнале парторга Маркина с автобазы, хотя не было никакого смысла проверять факты. Девяносто процентов из состава шоферов в автоколонне были спецпереселенцами, бывшими махновцами, эсерами. Поразительно, что на это никто не обратил внимания раньше. А если на каждый грузовик установить по пулемету, то получаются автотачанки похлеще махновских. Один пулемет уже найден. Выяснилось и связующее обстоятельство: начальник автобазы Андрей Иванович Сулимов бывал иногда в гостях у старика Меркульева, который спрятал пулемет в гробу. Меркульев пока еще не пойман, в бегах. Сулимов с ним бражничал. Сулимов – тип ущербный. В годы революции служил в бронеотряде левых эсеров, воевал на стороне красных, перешел в партию большевиков. Но и в большевиках продержался не так долго, был исключен из партии за великодержавный шовинизм: протестовал против передачи Башкирии города Белорецка. В партию Сулимов был принят вновь в 1928 году. Кабаков и направил его первым к Магнитной горе, чтобы он организовал питание и жилье для первостроителей. В общем магнитогорец № 1, так его называют. Но для чего же он сконцентрировал на автобазе махновцев?
Хитаров пообещал Придорогину:
– Разберемся, направим в автохозяйство комиссию, которую возглавит честный коммунист, умный человек.
– Кто это будет? – попытался уточнить сразу начальник НКВД.
– Голубицкий.
Придорогин не любил Голубицкого по трем причинам. Во-первых, он был свидетелем пьяной стрельбы на кладбище по суслику, по крестам. Во-вторых, у него была очень уж красивая жена. Даже более прекрасная, чем у Пушкова. Это унижало начальника милиции. И, в-третьих, самое главное: Голубицкого премировали легковой машиной эмкой. Придорогин ездил на развалюхе, чихающей и дымящей, бренчащей, как связка ржавых консервных банок. А какой-то жалкий технарь Голубицкий красовался по городу, будто миллионер. Если бы Голубицкого удалось арестовать, то машину можно было бы реквизировать для НКВД. Но доносы на Голубицкого не подтверждались. И за спиной этого удачливого и счастливого человека стояли слишком крупные фигуры – Завенягин, Орджоникидзе.
Голубицкий принял партийное поручение с неохотой, но отчет написал обстоятельный, объективный. Сулимов действительно формировал кадры автобазы по личным симпатиям к бывшим эсерам.
– А махновцы, што ли, не люди? – ерошился Сулимов.
Однако связь Андрея Ивановича Сулимова с местным казачеством не подтвердилась, Сулимов не любил казаков, считал их врагами советской власти. И первого же казака, у которого поселился еще в 1929 году, отправил в тюрьму, конфисковав у него оговором усадьбу и дом.