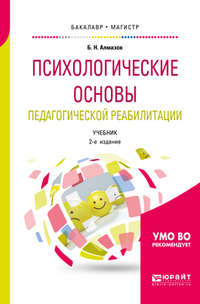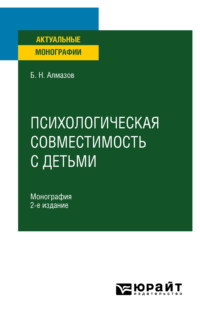Полная версия
Правовая психопатология
До XIX в., как уже говорилось, вопрос решался довольно просто, ибо объектом психиатрического насилия становились лишь явно безумные или откровенно помешанные лица, не пытавшиеся протестовать против такой практики просто потому, что это не приходило им в голову. Когда же в правовое пространство, охватываемое правилами обращения с умалишенными, стали втягиваться люди всего лишь с психическими недостатками, дискуссии по проблеме ограничения социальной дееспособности переросли в длительную и упорную борьбу за права человека.
Наглядным примером служит процесс миссис Пакард, помещенной в 1862 г. в психиатрическую больницу «за несогласие с мужем» на основании закона штата Иллинойс, по которому «замужняя женщина… может быть помещена в психиатрическую больницу по требованию мужа… без каких-либо признаков, свидетельствующих о помешательстве, которые необходимо представлять в других случаях». Героическая борьба этой женщины за свои права встретила горячий отклик со стороны общественности и привела к либерализации обращения с больными, как в Америке, так и в других странах.
Период до первой мировой войны прошел в активных поисках формулировок правовых норм, где устанавливались бы правовые запреты, обязывающие воздерживаться от нарушения прав человека на охрану здоровья, порядок применения мер принуждения в интересах больного, неприкосновенность личности при оказании медицинской помощи. При этом полемика велась главным образом вокруг оснований для применения ограничений, т. е. социальной опасности и беспомощности. Ведь было достаточно констатировать их наличие и сопоставить с фактом психического заболевания, чтобы уполномоченные на то органы ввели в действие аппарат принуждения.
Недобровольное помещение в спецбольницу лица, у которого обнаруживались указанные признаки, вменялось в обязанность местным органам исполнительной власти (префекту, главе управы, шерифу и т. п.) с соответствующим контролем судебных органов или без такового. Обращение с больным в психиатрическом учреждении регламентировалось инструкциями департаментов, ведающих здравоохранением. Социальная поддержка регулировалась законодательством об опеке.
Такой порядок был достаточно эффективным, но содержал в себе несколько спорных и сомнительных моментов. В частности, приоритет критерия «социальная опасность», на который можно было опираться независимо от оценки тяжести самого заболевания, создавал сильный соблазн распространить практику обращения с психически больными на все социально опасные элементы общества (не все ли равно, где они находятся – в тюрьме или больнице, лишь бы сохранялся порядок). Благо, антропологическая криминология расширила границы психопатологической диагностики до необозримых пределов.
Подобная практика, подменяющая понятие ответственности принципом социальной целесообразности, к сожалению, имела место и в Европе, и в Америке конца XIX – начала XX в. И даже безусловный авторитет в мировой науке Э. Крепелина послужил для обоснования экспансии психиатрии в вопросы социальной регуляции общественной жизни. В его классификации психических болезней фигурировали «враги общества», «лгуны», «мошенники», а основные положения книги «Отмена меры наказания» (1880 г.) попирали сферу личной неприкосновенности человека во имя сохранения общественного порядка.
Психиатрическая «модификация», «коррекция», «адаптация» поведения в разного рода центрах по изучению личности человека стала обычным делом до и особенно после первой мировой войны. Дальше всего в этом направлении продвинулась Америка, но и в нашей стране в 30-е гг. правительство ввиду явных злоупотреблений научно не обоснованными методами воздействия на человека было вынуждено запретить подобную деятельность, закрыв Центр психологии преступника и резко осудив педологическую практику в системе образования. Когда же успехи психохирургии, открытие шоковых методов лечения и стремительный рост психофармакологии сделали психиатрическое вмешательство очень грозным, а последствия врачебной ошибки попросту страшными, в обществе зародилось и окрепло мощное антипсихиатрическое движение с категоричным требованием поставить все формы ограничения личной свободы по мотивам психического нездоровья под гласный и законный контроль.
На какое-то время защита граждан от вмешательства в их психический мир выдвинулась в число приоритетных задач правозащитного движения в целом под лозунгом «отменить порядок, при котором ни один восточный сатрап по своей власти над человеком не может сравниться с обыкновенным участковым психиатром». И хотя вторая мировая война поставила перед человечеством более серьезные проблемы, сразу вслед за преодолением послевоенной разрухи дискуссия на эту тему вспыхнула с новой силой. 60-е гг. XX в. прошли под флагом деинституализации (преодоления замкнутости) психиатрической помощи и интеграции психически больных в общество, что позволило сформулировать присущие современной цивилизации принципы обращения с психически больными.
В 80-е гг. прошлого века многие страны Европы и Америки приняли новые законы (Швеция даже дважды) о психиатрической помощи, само название которых не оставляет сомнений в намерениях законодателя. В качестве примера приведем Францию, где в 1990 г., спустя полтора века после появления закона «Об умалишенных», был принят закон «О правах и правовой защите лиц, госпитализированных в связи с наличием у них психических расстройств, а также условий их содержания».
Своеобразным итогом правозащитного движения в разных странах стала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. № 46 «Принципы защиты лиц, страдающих психическими заболеваниями, и улучшения здравоохранения в области психиатрии».
Вот важнейшие из этих принципов:
♦ презумпция психического здоровья лица при его участии в гражданских правоотношениях;
♦ обеспечение действия норм, устанавливающих гарантии гражданских прав независимо от степени расстройства психического здоровья;
♦ гарантированная доступность психиатрической помощи;
♦ отсутствие дискриминации в специальных нормах, применяемых в отношении психически больных.
В нашей стране административный порядок помещения человека в психиатрическое учреждение вопреки его желанию и использование разного рода ограничений, связанных с фактом психиатрического учета, сохранялся вплоть до 1992 г. В качестве руководства к действию до 1988 г. применялась инструкция Министерства здравоохранения, согласно которой лицо, если оно «нарушает общественный порядок, либо правила социалистического общежития, а также представляет непосредственную опасность для себя и окружающих… и есть основания предполагать наличие душевного заболевания», решением органа здравоохранения при содействии милиции помещалось в психиатрическое учреждение.
Администрация лечебного учреждения, опираясь на заключение комиссии врачей (ВКК), самостоятельно решала вопрос о целесообразности госпитализации, сроке пребывания, характере лечения и возможности выписки пациента.
По сути, на психическую патологию переносились нормы права, предусмотренные Основами законодательства РСФСР о здравоохранении для инфекционных больных, которым также свойственно быть источником социальной опасности. Однако в отличие от инфекций, где этот источник диагностируется микробиологами со стопроцентной объективностью, фактор социальной опасности в состоянии психически больного человека предлагалось оценивать самим врачам по собственному усмотрению.
Попытка реформировать сложившуюся практику, согласно которой врач был обязан делать выводы о том, насколько поведение больного человека «нарушает правила социалистического общежития», была предпринята в 1988 г., когда указом Президиума Верховного Совета СССР было введено в действие Положение об условиях и порядке оказания психиатрической помощи. Оно не сыграло заметной роли, и в 1993 г. ему на смену пришел закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», который существенно изменил ситуацию: во-первых, поставил деятельность психиатрической службы при необходимости оказания помощи в недобровольном порядке под контроль суда; во-вторых, установил процедуру доказательства необходимости применения мер психиатрического ограничения волеизъявления; в-третьих, гарантировал и конкретизировал право больного отказаться от лечения; в-четвертых, исключил возможность недобровольного психиатрического освидетельствования в интересах министерств и ведомств; в-пятых, ввел применение судебных мер защиты вместо административной процедуры оспаривания действий должностных лиц.
Согласно новому закону гласность, многочисленность лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении вопроса, возможность соревнования заинтересованных сторон, жесткость судебной процедуры призваны гарантировать справедливость и беспристрастность судебного решения, за что человечество борется со времени принятия Закона об умалишенных (1835), обсуждения в 1914 г. первого российского проекта (так и не принятого) законодательства о душевнобольных.
Новейшая история внесла в сферу деятельности судебной психиатрии представления о профессиональной дееспособности в рамках права человека на труд. Речь идет о необходимости судебной защиты права выбора профессии, вида образования, возможности заниматься трудом по собственному усмотрению.
До последнего времени «невозможность надлежащего выполнения трудовых операций в связи с наличием нервно-психических отклонений» и вытекающие из этого профессиональные ограничения не были включены в число обстоятельств, подлежащих судебному рассмотрению. Они, как и прочие болезни, входили в соответствующий перечень заболеваний, утверждаемый правительством в качестве основания для решения медицинских комиссий по профессиональному отбору. Это не вызывало протеста граждан, за исключением редких эксцессов со стороны отдельных людей, как правило, добивающихся профессионального признания вопреки явным противопоказаниям.
Между тем за последние годы фактор психического недостатка как основание для отказа в приеме в учебное заведение, лишения допуска к ряду широко распространенных профессий и даже как повод для увольнения стал использоваться в массовом порядке. Под прикрытием тезиса «оптимизации выбора карьеры» происходит откровенная селекция граждан в интересах работодателя или ведомства, занимающегося образовательной деятельностью, что вызывает заметную социальную напряженность, так как ограничивает социальные перспективы достаточно большого числа людей. А поскольку медицинские критерии, которыми при этом руководствуются, все больше сближаются с психологией, теряя четкость клинических симптомов, протест общественного мнения выглядит вполне обоснованным. По-видимому, наступает момент, когда административный порядок ограничения профессионального волеизъявления исчерпывает доверие населения; на смену должен прийти судебный способ защиты личных интересов граждан с присущими ему равенством сторон, необходимостью доказывания и экспертным подтверждением объективности оснований для конкретного решения.
Закон о психиатрической помощи свидетельствует, что современная правовая реальность ориентирована на защиту больного от злоупотреблений со стороны других лиц; ее механизм включает в себя два основополагающих компонента: правовой и организационный. Первый складывается из специфики правосубъектности, привносимой фактом психического заболевания, критериев определения последствий совершенных психически больным лицом действий как ничтожных, оснований освобождения от ответственности и видов представительства интересов психически больного лица. Второй компонент предполагает создание новых и совершенствование уже существующих обязанностей учреждений и организаций, призванных оказывать помощь психически больным людям и защищать их интересы, с одной стороны, и общества – с другой.
Вопросы для самостоятельной работы
1. В чем состояли исторические предпосылки перехода от административной регуляции взаимодействия психически больных людей с обществом и государством к судебной?
2. Когда и почему появились юридические критерии оценки психического здоровья в уголовном и гражданском законодательствах?
3. В России закон, регулирующий оказание психиатрической помощи был принят позднее, чем в Европе. Почему?
Рекомендуемая литература
Крафт-Эбинг. Судебная психиатрия. СПб., 1987.
Сербский В. П. Судебная психопатология. СПб., 1995.
Судебная психиатрия / Под ред. Г. В. Морозова. М., 1986.
Судебная психиатрия / Под ред. Б. В. Шостаковича. М., 1997.
Волков В.Н. Судебная психиатрия. М., 1998.
Иванов В.В. Сдебная психиатрия. М., 2000.
Георгадзе З.О., Циргасова З.В. Судебная психиатрия. Пособие для ВУЗов. М., 2002.
Жариков Н.М., Морозов Г.В., Христинин Д.Ф. Судебная психиатрия. М.,2003.
Ткаченко А.А. Судебная психиатрия. М., 2004.
Колоколов Г.Г. Судебная психиатрия. Цикл лекций. М.,2006.
Аргунова Ю. Н. Законодательное регулирование психиатрической помощи во Франции // Независимый психиатрический журнал. 1994, № 1.
Каннабих Ю. История психиатрии. М., 1994.
Кондратьев Ф. Советская психиатрия: секреты перевернутой страницы истории // Рос. юстиция. 1994. № 1.
Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 4.
Ноэм Дж. Психология и психиатрия в США. М., 1984.
Принципы защиты лиц, страдающих психическими заболеваниями, и улучшения здравоохранения в области психиатрии: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. № 46 // Международная защита прав и свобод человека. М., 1998.
Судебная психиатрия: Отчет о совещании рабочей группы ВОЗ. Копенгаген, 1978.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 2000.
Глава 2. Юридические критерии в оценке психических расстройств
1. Роль специалиста в определении правосубъектности по факту психического недостатка
Современная терминология уголовного, гражданского и социального законодательства отличается широкой палитрой психических недостатков, которые являются поводом для обращения к правосудию и заложены в основу гарантий личных прав на социальную поддержку со стороны общества и государства. Но так было не всегда. На протяжении многих веков люди обходились только медицинскими формулировками: «помешанные под закон не подпадают», «аще бесный убьет, невиновен бысть в смерти» и т. п. Иными словами, наличие диагноза признавалось достаточным основанием для того, чтобы вывести человека за рамки правовых отношений. Юристы не вмешивались в ход врачебной (в иное время – церковной) мысли, считая излишним вникать в сферу естественных наук. И лишь со второй половины XIX в. объектом юридической мысли становится не только сам факт заболевания, но и «остаточные силы духа», которые сохраняют человеку частичную способность разумно вести свои дела и удерживать поступки в границах, установленных законом и обычаем.
О культурных (исчезновение общины), политических (отмена привилегий), научно-технических (условия для создания единого информационного пространства), этических (отмена сословных предрассудков) предпосылках усиления внимания к духовной жизни мы уже говорили в первой главе. Будучи вытолкнут из традиционной инфраструктуры ролевых отношений в социальной среде («как колодник в степь»), оставшись один на один с обществом и государством, человек потребовал от закона охраны прав на социальную защиту в обстоятельствах, когда его личные возможности ограничены не внешними запретами, а собственной ущербностью. При этом суть его представлений о социальной справедливости была ясна и понятна окружающим. Естественный опыт сосуществования с психически аномальными, глупыми от природы и выжившими из ума, травмированными, наркозависимыми людьми не оставлял сомнения, что закону действительно необходимо предусмотреть меры, гарантирующие человеку возможность достойного существования, а обществу – защиту от его сумасбродного поведения.
Вместе с тем критерии ущерба воли были не столь очевидны, как признаки безумия, и традиционные установки на диагноз мотивов поведения, качественно отличающихся от психологически понятных детерминант, уже не отвечали своему времени. Законодатели стояли перед выбором: а) расширить сферу компетенции врачей в правовом пространстве; б) увеличить полномочия суда в оценке личных (индивидуальных) особенностей человека для конкретного решения; в) ввести в судебный процесс носителей знания о специфике психической средовой адаптации человека.
Каждое решение имело свои плюсы и минусы.
Теоретически социальный заказ был ясен. Понятия об «отсутствии свободного волеизъявления», «невозможности определить свою волю», «дефекте сознания», не позволяющем понимать природу и качество совершаемого деяния, «уменьшении сознания преступности деяния или силы сопротивления соблазну» были сформулированы применительно либо к отсутствию «свободного соизволения для произведения права вследствие безумия, сумасшествия, беспамятства, утраты умственных способностей и рассудка от старости или дряхлости и лунатизма», либо к ущербу такового «вследствие легкомыслия, слабоумия или крайнего невежества». И, казалось бы, врач должен был констатировать первое, а специалисты, занимающиеся личностью, – второе. Оставалось лишь обязать последних потрудиться в интересах правосудия, если бы таковых удалось найти.
К сожалению, психология в то время не владела практическими навыками изучения реального человека, оставаясь частью философии; о социологии вспоминали лишь при необходимости получить данные демографической статистики; педагогика ограничивалась довольно схематичными советами относительно техники обучения и воспитания. Внутренний мир личности, о котором надлежало судить по закону, оставался главным образом предметом литературы с ее созерцательным отношением к жизни.
Юристы постарались внести свою лепту в разработку критериев ущерба воли, но, обладая исключительно гуманитарными знаниями, были вынуждены ограничиться успехами лишь на ниве публицистики и изящной словесности. Наиболее талантливые судебные речи, дошедшие до нас, в прекрасном стиле описывают целую эпоху на рубеже XIX и XX вв., но к науке они, к сожалению, не имеют никакого отношения (например, А. Ф. Кони имел звание профессора изящной словесности).
Единственно надежным источником более или менее достоверных или хотя бы классифицированных знаний была психиатрия, к которой и обратились ожидания правосудия. Социальный заказ на юридическую оценку психических расстройств любого происхождения был адресован медицине. И та приняла на себя ответственность. Тогда были сформулированы действовавшие до последнего времени правила, в соответствии с которыми при возникновении сомнений относительно психической полноценности человека суды были обязаны руководствоваться, во-первых, медицинским критерием (наличие болезни), а во-вторых, юридическим (психологическим). Тексты законов включали в себя прямые указания на диагнозы: «душевная болезнь», «временное расстройство душевной деятельности», «хроническое душевное заболевание», «слабоумие» и т. п. Судебно-психиатрическая экспертиза занимала привилегированное по сравнению с другими видами экспертиз место в судопроизводстве.
Такое распределение ролей отвечало прежде всего интересам юриспруденции. Признавая болезнь достаточно тяжелой, медицина освобождала правоприменительную систему от забот о человеке: лишала его свободы в стенах собственных учреждений, контролировала реализацию опеки, решала многие вопросы административного регулирования. И хотя юристы сохраняли за собой право относиться к врачебному заключению лишь как к одному из видов доказательств, они охотно уступали врачам примат по существу.
Ситуация двух правосудий (для больных и для прочих граждан), позволявшая юридической антропологии находиться в состоянии анабиоза, тянулась почти сто лет, пока сам ход развития культуры не заставил считаться с изменениями в общественном сознании.
За то время, пока юристы продолжали смотреть на индивидуальные особенности вменяемого и дееспособного человека как на не заслуживающие профессионального внимания судьи, а врачи ограничивали сферу своей деятельности в процессе исключительно мотивациями поведения, качественно отличающимися от нормальных, население многому научилось. XX в. недаром называют ренессансом экзистенциальных отношений, когда люди осознали, что внутренний мир не менее важен и интересен, чем социальная роль, место в обществе и коллективе. Потребность в адаптации к самому себе (когда, убедившись, что бежать от свободы невозможно, люди приняли ее как свершившийся факт бытия) вызвала небывалый рост знания в практической психологии. И, естественно, среди образованных, с точки зрения психологии, граждан появилось множество лиц, не без основания считающих себя жертвами прогресса и цивилизации в силу ограниченных возможностей, но ни за что не согласных оказаться в руках психиатров, чьи туманные представления о социальной реальности в сочетании с бесцеремонной манерой обращения способны оттолкнуть любого, кто мало-мальски озабочен своим престижем и достоинством. В поисках совета, помощи и лечения они начали активно искать специалистов и нашли их в лице психотерапевтов, психоаналитиков, просто психологов социальной работы, педагогов психологической ориентации.
Обращаясь к покровительству закона или оказавшись перед его лицом по воле обстоятельств, такие люди ожидали, что суд не ограничится признанием отсутствия душевной болезни, а вникнет в их индивидуальные проблемы. И это справедливо, ибо правовое пространство не может сильно отличаться от житейского.
Реальный человек (вместо некоего абстрактного физического лица) все настойчивее заявлял о своем существовании, так что даже авторитарные режимы с их представлениями о правах человека не могли дольше пребывать в границах юридических понятий полуторавековой давности, и законодатель сделал те шаги, которые не мог позволить себе в XIX в.: он ввел в процесс отправления правосудия специалистов в области психической средовой адаптации и расширил полномочия суда в оценке индивидуальных отличий.
2. Современные представления о поле деятельности специалиста в области психопатологии
«Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным…» (ст. 29 ГК).
«Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной…» (ст. 177 ГК).
«Требовать признания брака недействительным вправе… супруг… если… в силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака… один из супругов не мог понимать значения своих действий или руководить ими…» (ст. 28 СК).
«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии (?) невменяемости… вследствие… психического расстройства… либо иного болезненного состояния» (ст. 21 УК).
Вопрос адресован законодателю, который неоднократно подчеркивал, что невменяемость есть юридический статус, признанный судом, а не характер переживаний человека. Тем не менее, терминологическая нечеткость осталась в букве закона, которая предписывает выводить «состояние невменяемости» из «болезненного состояния».
«Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания….» (ст. 22 УК).
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью… повлекшее за собой… психическое расстройство…» (ст. 111 УК).
«Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (?), освобождается от наказания… его отбывания» (ст. 81 УК).
Вопрос адресован законодателю, который предписывает оценивать поведение заключенного, как правило, лишенного возможности вести себя общественно опасным образом. По-видимому, речь должна идти не об «опасных», а о действиях вообще.
Замена термина «душевное заболевание» на «психическое расстройство» и «состояние», казалось бы, не имеет принципиального значения. Можно подумать, что законодатель просто привел свои формулировки в соответствие с лексикой Всемирной организации здравоохранения, чья классификация так и называется: «Психические и поведенческие расстройства». Однако буква закона отличается от ведомственного языка. Закон, будучи опубликован, имеет тенденцию вступать в противоречие с волей и намерениями своих авторов и начинает жить самостоятельной жизнью в зависимости от того, как его понимает население.