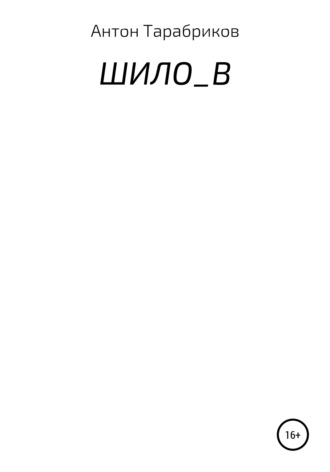 полная версия
полная версияШИЛО_В
Тут надо пояснить, что Авдей Наумович не был противником «кластерного принципа». Более того, он считал его достаточно естественным, но «как всегда, кажущаяся стройность и логичность, перечеркивается специфической реализаций», так он высказывался по этому поводу. Если коротко, то кластеры должны формироваться естественным путем из мелких частей, а не втыкаться посреди всего, с единственной целью – «откачать все, что попадется». У нас, для реализации хотелки верхов, времени для естественного формирования кластеров не было. Поэтому Шилов и придумал «одеяльный» подход, который заключался в равной доступности по ключевым надобностям, с учетом частоты обращений. Проще говоря, в среднем, инфраструктурой досуга мы пользуемся существенно чаще, чем, например, медициной, поэтому и степень присутствия в этих новых зонах у досуга была соответствующей. Вообще, кое-какие «локации равного доступа» еще остались, можете посмотреть, как все это выглядело.
Извините, вопрос по ходу, а где вы места находили?
Ха, на самом деле, вопрос с нехваткой места, в то время, был несколько преувеличен. Понято почему, из-за пресловутого направления бюджетного финансирования. То есть тема с нехваткой места раздувалась именно для того, чтобы что-то выбить из бюджета для этих целей. Но места было достаточно. И я сейчас говорю не о малых или прилегающих к мегаполисам территориях, я говорю именно о местах в самих мегаполисах. Другой вопрос, что их надо было расчищать, адаптировать или переориентировать, а это большая возня, госаппарат к этому не привык, вот откуда и пошло это нытье про нехватку места. Более того, подавляющее большинство объектов для расчистки были государственными либо окологосударственными. Чаще всего это были различные технопарки, выставочные комплексы, дата-центры и тому подобное. Короче, все то, что начиналось возводится на какой-то волне, но забрасывалось при угасании этой волны. И это, надо сказать, самое яркое проявление реакционности нашего госаппарата – движение исключительно в фарватере амбиций верхов. Но, мы сейчас не про них. Возвращаясь к ответу на твой вопрос, места получали мы достаточно просто – выкупали государственную по остаточной балансовой стоимости, со всеми долгами и проблемами, то есть, практически, даром.
Небольшое дополнение про то, на какие средства это все приобреталось и создавалось. В этом случае Шилов не пошел по своему обычному пути приобретения самого необходимого на негосударственные средства, с последующим реинвестированием. Для задачки по инвестклимату он поступил хитрее. Дело в том, что у окологосударственных компаний образовались операционные прибыли, исчисляемые нереальными размерами. Не буду вдаваться в подробности почему. И существенная часть этих сумм была «в плену» у правил, которые они сами себе придумали. Если говорить утрированно, то эти средства нельзя было ни реинвестировать, ни выплатить дивиденды, можно было только покрывать долги, но долги окологосударственного сектора это, фактически, оксюморон. Вот Шилов и предложил Лобову пустить эти средства на создание локаций, придуманных нами, а когда будет достигнута хотелка по инвестклимату, «инвесторы» могли бы использовать эти локации на свое усмотрение. Лобов на это достаточно быстро согласился. Еще бы, он везде был в выигрыше: решалась хотелка; получались новые активы, весь геморрой по созданию которых, был на нас; подрастал политический капитал верхов и его лично. Единственным условием Шилова было полное неучастие в этом «веселой троицы».
И как быстро вы начали создавать эти самые локации?
Матвей Сергеевич и говорит, что все прошло на удивление быстро. С другой стороны, по другому и быть не могло, столько задач сразу решалось в пользу верхов и Лобова, они такое сразу же просекают. В течение десяти-одиннадцати месяцев были сделаны около двухсот тридцати комплексных локаций в девятнадцати мегаполисах. После года функционирования, хотелка по общегосударственному инсветклимату была достигнута. Более того, результаты, по некоторым показателям, даже превзошли прогнозы. Например, по показателю вовлеченности, по показателю участия реального сектора, по уровню административных издержек.
А самый главный вывод, который можно сделать из решения этой задачи, состоит в том, что – чем меньше государство вмешивается в то, во что ему вмешиваться не надо, тем лучше это отражается на росте и развитии. Ведь ключевое, что сделал Шилов, при решении этой задачи, это убедил Лобова применять на этих локациях регулирование и администрирование по самому минимуму.
И это же сделало невозможным долгое существование этих локаций, так как методы и принципы, по которым они были созданы, явно демонстрировали ненужность государства в таком количестве, и несостоятельность, как минимум, восьмидесяти процентов его действий. Но, об этом многие догадывались, а вот главное, что в этом всем не устраивало госаппарат, это явная необходимость меняться. Чего, как Вы сами понимаете, они не просто не хотели, они не могли физически. Вот и образовался выбор: либо уровень инвестиционного климата, либо их образ жизни. В пользу какого варианта он был сделан, очевидно.
Глава 17.
Последствия реализации хотелки по инвестклимату были далеко идущими. Этого Шилов тоже не предусмотрел и не просчитал, что является вторым его огромным промахом. В чем же состояли эти последствия? А в том, что осознав свою уязвимость и неприглядность на фоне созданных нами локаций, верхи провели очевидную аналогию с программой по малым территориям и ГОИ. Выводы их были, сам понимаешь, вполне очевидными. И начался полномасштабный процесс установления тотального контроля со стороны чиновничьей машины над программой и инициативами, с параллельным отстранением от управления ими нас и нашей организации.
Не хочу показаться недалеким, но не уже они этого не замечали раньше? Ведь ГОИ и программа существовали достаточно продолжительное время.
Конечно замечали. И, прямо или косвенно, мы это отмечали ранее. Но, принцип «нет ничего нагляднее, чем прямое сопоставление» никто не отменял. А на фоне комплексных локаций вся деятельность власти и «околовласти» выглядела не очень приглядной, мягко говоря. Плюс стали заметными такие процессы, как: отток населения из мегаполисов на территории, автономизация экономики и инфраструктуры территорий, а также куча более мелких процессов без какой-либо привязки в госаппарату. Это все в совокупности и побудило верхи к активным действиям «по разворачиванию ситуации в свою пользу».
Лен, извини, ты так рассказываешь, что может сложиться впечатление, будто на территориях процветали чуть ли не сепаратистские настроения. Это абсолютно не так. Более того, Шилов был противником институционального обособления и противопоставления. «В идеале надо стремиться к тому, чтобы отличались только природные условия, а все остальные, рукотворные, условия должным быть максимально унифицированы. А вот уже в таких условиях социальные единицы должны быть автономными. Любая другая конфигурация автоматически несет в себе высокий риск конфликтов и конфронтаций. Что же касается ресурсов, то они должны быть выведены в надгосударственные институты, главной целью которых должно стать не их перераспределение, а их преумножение. Прекрасно понимаю всю утопичность подобной конструкции, но сам факт движения в этом направлении приведет к более устойчивым и созидательным конфигурациям.» Я процитировал часть доклада Авдея Наумовича на одной из общегосударственных научных сессий, которые он посещал с гораздо большим желанием, чем любое заседание госсовета. Кстати, эта научно-практическая сессия и была посвящена проблеме того, что на территории нашей страны, фактически, образовалось два государства. Шилов был главным действующим лицом той сессии, и он прямо сказал: «Разделение это только социально-экономическое, и никак не институциональное. Институционального нет и будет потому, что на малых территориях практически полностью отсутствует политика. А социально-экономическое обособление от мегаполисов было сделано намеренно, так как другого варианта реализации программы капитализации территорий и быть не могло.» Почему нельзя было по-другому, мы разъяснили ранее. И про то, куда ушла вся политическая активность, также объяснили. А вот про что мы не упомянули, так это про социальную сторону программы по капитализации территорий.
Благо, объяснить ее достаточно просто. По сути, социальная составляющая программы была логичным продолжением ГОИ, только в более развернутом виде. Фундаментально, по этому направлению, мы решили следующие задачи: наглядно и показательно разъяснить; научить принимать решения; сформировать среду для реализации решений. И самое главное – при всем при этом, не должно быть затронуто «личное пространство» человека, только публичное. Глобально, это привело к тому, что аполитичные жители территорий самостоятельно организовывали свою социальную жизнь пользуясь предоставленной инфраструктурой. Политически же активные – были заняты в «ДВиК». «Не надо бороться с тем, что человек от природы эгоцентричен, надо лишь создать условия, при которых столкновения эго не будут фатальными. А еще лучше, чтобы эгоцентризм проявлялся, как можно реже.» Так Шилов формулировал главную задачу по социальному направлению программы. В результате, была созданы социальная среда и инфраструктура, в которых нашлось место практически всем. По крайней мере, на территориях не было районов-изгоев или закрытых гетто, как это было в мегаполисах.
Да, на счет социального фона на территориях, очень полезно.
Только вот в чем парадокс, этот самый социальный фон и сыграл против нас в вопросе отбора у нас управления программой и ГОИ. Но, обо все по порядку. В течение первого года после достижения нужных показателей по инвестиционному климату, наблюдался значительный, даже резкий, прирост иностранного капитала в нашу страну. Как он использовался и распределялся, рассказывать не надо, всем это давно известно. Скажу только, что на деятельности нашей организации этот прирост не отразился ни в малейшей степени. Разве что, на этот год мы снова получили передышку от внимания госаппарата. Но мы-то ладно, мы изначально ни на что не претендовали, а вот международный капитал такого обращения не прощает. В результате, на крупнейшем мировом экономическом совете нашему государственному руководству было прямо сказано, что статус нашего инвестиционного климата пересмотрен и, исходя из этого, были даны соответствующие рекомендации. А самое главное, что мировые аналитические нейросети изменили критерии и методики так, что сделанное нами для «нарисованного» инвестклимата, больше не работало. Точнее, работало – люди пользовались, но без существенных результатов, так как осталось без государственного рычага. И самое скотское в этом всем заключалось в том, что крайними в вопросе «манипулирования» показателями инвестиционной привлекательности, оказались мы, прежде всего Шилов, разумеется. И, надо признать, формально это было действительно так.
Вадим, я бы не стала нагонять жути по этому поводу. Этот риск и сценарий был хорошо просчитан, на такую вероятность мы обращали внимание изначально. И готовились мы в тот момент к тому, что нас с Шиловым окончательно изолируют в рамках программы и трех ГОИ, с гарантией стабильных поступлений в бюджет. Тогда казалось, что это наиболее вероятный сценарий: ну сделают нас крайними, ну распекут в новостных потоках, от стабильных финансовых потоков при хорошем социальном фоне они же не откажутся. Но нет, случилось то, что Авдей Наумович не просчитал, Лобов, в нашем присутствии, озвучил следующее решение верхов: «
Лобов: Ну что, господа и дама, надо с вами что-то делать. Резонанс-то с инвестклиматом получился очень существенным, с большим негативом.
Шилов: Евгений Генрихович, простите за дерзость, а можно сразу к сути? Без констатации очевидного.
Лобов: Говоришь, очевидное? Вот и для нас с коллегами все очевидно, что-то вы с вашей организацией подустали от постоянной практической деятельности на высшем государственном уровне, часто просчитываться стали: то кооператоры, то интеграторы, то немотивированные отказы от почетных должностей. Теперь вот еще и скандал с манипуляциями показателями, как-то это все нехорошо, мягко говоря. Исходя из всего этого, решение такое – мы отстраняем вас от руководства организацией и, как следствие, от руководства программой и ГОИ. Мы не можем рисковать хорошо отлаженными и функционирующими проектами.
Шилов: Ясно. Мы свободны?
Лобов: Нет уж, Авдей, подожди. Просто так вас никто не отпустит, особенно, если учитывать, что вы наворотили. Но, и о ваших заслугах никто не забыл, несмотря на твое своенравное и вызывающее поведение. В общем, даем вам шанс реабилитироваться, но только не по исполнительной линии. Как уж вы это сделаете, придумайте сами, это у вас хорошо получается.
Шилов. Понятно. Я правильно понимаю, что программа и ГОИ передаются в ведение Вашим «обезьянкам», Пирову, Ваксину и Беглому?
Лобов: Кому и что я передаю, уже не твоя забота. Особенно, учитывая хамский тон твоего вопроса. Ты сейчас думай о себе и своих людях. Срок на обдумывание и придумывание – месяц, не больше, иначе может случиться другой срок.»
Вот такой короткий и однозначный посыл донес тогда Лобов – либо они оставляют нас «вне правового поля», либо мы должны придумать, как мы еще сможем быть полезными, но без непосредственного контакта с ресурсами.
Я прошу прощения, для окончательного прояснения, а как все-таки в вопросе по инвестклимату крайними оказались только вы?
Тут все просто, была выпущена следующая формулировка для информационных потоков: «Для большей объективности и продуктивности по задаче формирования инвестиционного климата нашего государства, была выбрана самая эффективная из организаций, контролируемых общественностью. Соответственно, решение данной задачи осуществлялось ей в автономном режиме, так как невмешательство, в том числе – одно из необходимых условий формирования инвестиционного климата. Никто из органов государственной власти никак не мог обнаружить, что показатели подгонялись под нужный результат». Проще говоря, все свелось к достаточно стандартной отговорке: «мы обмануты также, как и все остальные». Кстати, на основание этой линии был сформулирован и официальный повод для нашего отстранения от программы и ГОИ. Звучал он как-то, так: «Учитывая массовое нарушение государственной дисциплины, и нанесенный ущерб международному имиджу, такие-то такие-то отстраняются от управления тем-то и тем-то». Вот так, коротко и сухо.
Мда, даже не могу представить насколько это неприятно и обидно. Ну а как же жители территорий, предприятия на территориях, ученые, деятели культуры? Не уже ли никто не возмутился, хотя бы?
Логичный вопрос, только ответ на него, к сожалению, достаточно однозначный. Во-первых, сам понимаешь, ни у жителей ни у предприятий особых возможностей «для возмущения» не было, в этом вопросе госаппарат уже давно себя подстраховал со всех сторон. Во-вторых, как это ни странно, мы сами никак не пиарили нашу деятельность. Более того, о нашей работе знал достаточно ограниченный круг лиц: Лобов и его окружение, наш наблюдательный совет и их хозяева, видные представители общественных, научных, культурных и бизнес кругов, вот и все, кто был в курсе, предметно.
То есть получается, что в массе все думали, что изменения были связаны с деятельность государства, так получается?
Да, именно так, и нас это не просто устраивало, мы изначально стремились к такому положению вещей. Вижу твое удивление. На самом деле, ничего удивительного. «Чем менее изменчивы входящие условия, тем более достижим и предсказуем результат. Думаю, это для всех очевидно». И действительно, на момент запуска программы, данный тезис Шилова, для нас был очевиден. И потом, еще раз обращаю внимание, никто из нас не собирался ничего раскачивать, это вредно и непродуктивно, уже не раз доказано. У Авдея Наумовича на этот счет даже был сформулирован некий «псевдо-парадокс» – «Массовое сознание формирует среду. Среда формирует частное сознание. Из частных сознаний состоит массовое сознание. Вопрос, где точка отсчета?». Не пытайся ответить, все равно будешь одновременно и прав и неправ, Шилов разъяснял это так: «Ответ всегда будет субъективным, как и постановка вопроса, поэтому лучшим решением будет искать ответы на естественные вопросы, а не на искусственные или, тем более, навязанные». На практике это вылилось в то, что мы никогда не реагировали ситуационно, а вся всеобъемлющая текучка воспринималась нами не иначе, как обычное проявление субъективности. Проще говоря, чем больше ты основываешься на объективности, тем меньшее значение для тебя имеет субъективизм. Поэтому, вопреки официальному мнению, никаким «противостоянием государству» мы не занимались. Просто государство у нас субъективное, которое считает, что если ты его явно не поддерживаешь, значит ты ему противостоишь. Вот мы и стали «жертвой» подобной установки.
И как же, в таком случае, вы, ваша организация и Шилов лично, воспринимались общественностью?
Как и должны были – координаторами и исполнителями государственной программы и государственно-общественных инициатив, наряду с другими такими же организациями. И еще раз повторю, это было сделано сознательно, так как противопоставление влечет за собой ненужный интерес со стороны всего, чего только можно, а это уже сопровождается огромным ворохом лишних задач.
Понятно. Так вот одна из главных причин, почему о вас и Авдее Наумовиче, сравнительно мало упоминаний в официальных источниках?
Я бы сказал, что это главная причина. Именно поэтому, мы так часто подчеркиваем его и нашу непубличность, и даже скрытность.
Теперь для меня все окончательно прояснилось, в этом отношении. Давайте вернемся к отстранению вас от программы и ГОИ.
Небольшая поправка, с этого момента тот процесс я буду определять, не как отстранение, а как банальную узурпацию. Не скрою, ключевым здесь был, скажем так, «фактор Шилова» – его решение. После того, как Лобов сообщил нам о намерении верхов в отношении нас, Авдей Наумович взял тайм-аут, примерно на неделю. Неделя эта прошла в свойственной для него манере – никто его не видел и не слышал. Через неделю он связался с нами, и у нас состоялось следующее обсуждение: «
Шилов: Коллеги-товарищи, обстановку вокруг нас и связанную с нами, я разъяснять не буду, сами все прекрасно понимаете. Главное решение, которое мы должны принять, как быть и куда «плыть» дальше. Для начала, по традиции, слушаю ваши соображения…
Елена Федоровна: Авдей Наумович, у Вас самые большие риски, поэтому я считаю, что главная задача уберечь Вас от них. В связи с этим, предлагаю Вам избраться в Высший общественный совет, так как членство в этом совете предполагает неприкосновенность. Сделать это можно от любой малой территории, проблем это не составит.
Шилов: Признателен за Ваши благие намерения, Елена Федоровна, только вот Ваше предложение только усугубит ситуацию. Мы сейчас всячески должны демонстрировать Лобову, что мы ему не конкуренты и не покушаемся ни на что, связанное с ним. А Ваше предложение уверит его в обратном.
Елена Федоровна: Так можно же избраться в качестве главы исполнительного штаба «ДВиК».
Шилов: Сильно это Лобова не разубедит, в этом случае он будет считать, что у меня появились политические амбиции, а он этого, ой как не хочет. В общем, любые представительные и политические органы не вариант, это обозначение «прямой конкуренции» с верхами. Есть еще соображения?
Я: Можно возглавить какой-нибудь из государственных бизнесов, коих сейчас столько, что никто даже внимания не обратит, а подконтрольность там полная.
Шилов: Теоретически это вариант, Вадим Максимович, только есть один небольшой минус – мы дадим «стайке» наших мстительных «бабуинов» столько вариантов для стирания нас в пыль, что даже мне жутковато становится.
Я: Ваша правда, Пиров дошел до такой степени изощрения в этих вопросах, что на нас будет оттягиваться долго и мучительно.
Шилов: И я о том же. Матвей Сергеевич, а Вы что как-будто не с нами? Поделитесь, пожалуйста, Вашими размышлениями.
Матвей Сергеевич: Если честно, то все мои мысли сводятся к какой-нибудь международной организации. Но это, тем более, будет воспринято, как покушение на конкуренцию с верхами. Поэтому, остается только научная или преподавательская деятельность.
Шилов: Да, это может быть вариант. Правда, тем самым, мы подставим любое учебное заведение или научный центр, в которому будем иметь отношение. Причины этого я уже озвучивал. И мне бы очень не хотелось подобное допускать, так как считаю, что никто не должен отдуваться за нас и по нашему поводу. Так-что, тоже не пойдет. Все идеи? Тогда, вот, что надумал я, руководствуюсь тем, как услышал Лобова. Главная его установка в том, что мы должны остаться «в его распоряжении», но без прямого отношения к бюджету и ресурсам. В такой ситуации подавляющее большинство аппаратчиков сразу же сказали бы: «делайте с нами, что хотите, только оставьте при делах», и это означало бы переход в режим «полной подвластности». Я считаю, что это совсем не наш случай. Посему, я предлагаю решение, которое, с одной стороны, покажет их полное «доминирование» над нами, с другой – оставит нам «принадлежность самим себе». Решение в следующем, поскольку они считают, что настало время «выжимать» программы и ГОИ, то мы им и отдадим только главные ресурсогенерирующие объекты. Под нашим контролем останутся технологии и все, что с ними связано: данные, обеспечение, сопровождение. Для этого мы должны будем создать новую организацию, но уже исключительно по нашей инициативе, но с одобрением верхов. Предполагаю, что это должен быть некий центр мониторинга и аналитики, но это уже частности. Что на это скажете?
Я: Комплексно… Только вот, почему на это должен пойти Лобов?
Шилов: Правильный вопрос. Ответ такой же комплексный. Во-первых: мы им отдаем главный их объект желания – финансы. Во-вторых: формально, мы признаем себя «крайними». Ну и, в-третьих: если на это не пойдет Лобов, то есть пара-тройка его оппонентов, которые нашим предложением точно воспользуются.
Елена Федоровна: Стройно получается, Вы, как всегда, все продумали. В каком качестве Вы видите нас в этом всем?
Шилов: Не соглашусь, что продумал все, особенно помня о совместной инициативе с малыми предприятиями и «инвестклимате». Поэтому, для начала, если включаетесь, вы должны стать соразработчиками и реализаторами этих движений. А впоследствии, вы должны стать кем-то вроде совета директоров в созданной организации.
Матвей Сергеевич: Полностью принимаю. Я давно считаю неправильным то, что Вы один на себя собираете всю ответственность и, фактически, один за это отдуваетесь перед верхами и аппаратом.
Шилов: Благодарю за решение. Оценка уровня моей ответственности не принимается, по показателю «риск/потери» она у вас гораздо больше. Но, не дискутируем. Остальные?..
Я: В одной упряжке въехали, в одной и будем выезжать. Делаем!
Елена Федоровна: Лично я, лучшего решения все равно не придумаю, да и не нужно оно. Едем…»
Теперь нам предстояла самая сложная задача на том этапе – «упаковать» весь этот концепт и прийти к соглашению с Лобовым. Чем мы сразу же и занялись.
И какой фон сопровождал решение той задачи?
Самый, что ни на есть, враждебный. На полную включились технологии и инструменты по нашему «очернению». Количество негативных оценок нашей деятельности и нас лично возросло до такой степени, что можно было подумать, что мы всю свою жизнь занимались только вредительством. Благо система управления и контроля программой и ГОИ была настроена таким образом, что любой пиар-фон, практически никак не сказывался на их функционировании. Да и нашего вмешательства в текучку уже не требовалось, мы занимались исключительно развитием. А вот, что сказывалось на нас лично, и на нашей непосредственной деятельности, так это бесконечные вызовы в различные комитеты, комиссии и ведомства. Конечно, большинство из них были удаленными, но было достаточно и тех, на которые надо было являться лично. Мы даже были вынуждены придумать некую процедуру «достаточности оснований», которая позволила нам свести у минимуму все эту дерготню. Она заключалась в том, что на любой запрос или требование о явке, специальный бот генерировал встречный запрос, в несколько раз больший по объему, чем сам исходный запрос, с основаниями и пояснениями для запроса. Проще говоря, мы были вынуждены перебюрократить бюрократию, и большинстве случаев у нас это получалось.
Не лишним будет еще раз подчеркнуть, что до этого мы в информационных потоках никак не фигурировали, а Шилов появлялся в них пару раз в год. В период же «черного пиара» в отношении нас, какая-нибудь чушь в отношении нас и, прежде всего, Авдея Наумовича, появлялась чуть ли ни каждый день. И все это разрослось до таких масштабов, что начали появляться некие общественные инициативные группы, которые ратовали за инициирование не самых приятных процессов в отношении нас. Разумеется, поддерживались и финансировались такие группы тем самым крупняком, который мы «обидели», не дав эксклюзивных условий на территориях. Но и этот процесс нам удалось нивелировать, направив весь этот «социальный негатив» в русло деятельности комитетов и ведомств, против которых, на тот момент, мы уже научились действовать. А вот к тому, что начало происходить далее не был готов никто, даже верхи. И это уж точно нигде не отражено, ни в официальных источниках, ни в неофициальных.

