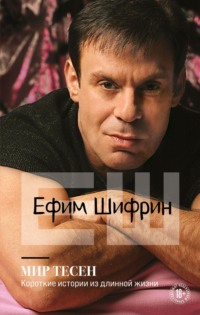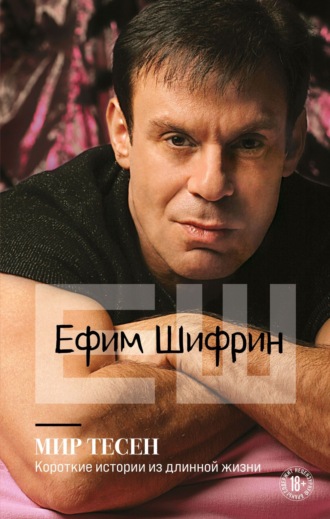
Полная версия
Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни
Как бы я сейчас хотел узнать: почему он решил уйти? Почему он всегда был один? И почему своим убийцей тоже выбрал поезд?
Господи, я опять закрываю глаза, но даже при закрытых веках вижу это неописуемое сальто, которое сделала уже, по-видимому, мертвая старушка, которой неистово сигналил поезд, приближаясь к другому переезду, у рынка на улице Пилсоню, где в тот час никого не было, да и я, хоть и кричал ей издалека, обхватив руками голову, не смог бы перекричать истошный рев тепловоза.
Режиссер Горбань, с которым мы сделали несколько спектаклей, погиб таким же страшным образом, оставив дома слуховой аппарат и тоже не услышав протяжного гудка приближающейся электрички.
Я не Лев Толстой, я не сумею описать эти железнодорожные трагедии так, как однажды и на века получилось у него. Но на мое представление о ценности жизни, о ее хрупкости повлияли не кино, не литература, не самоубийство Анны Аркадьевны, а вот эти реальные, страшные исчезновения людей, жизни которых так же, как и ее, нелепо закончились под колесами всегда неумолимого поезда.
* * *Это моя привычка. Ее сформировали не рассудочность и даже не мои представления о морали. Она была продиктована инстинктом самосохранения – я всегда «исчезал» в тот момент, когда дружба была исчерпана или отношения заходили в тупик, в котором глупее всего было бы начать объясняться.
Мое свойство не оглядываться тоже сложилось из-за инстинкта: я умею страдать по поводу существующих отношений и никогда не мучаюсь после того, как они закончились.
Это касается и моих любовей.
О любовях я расскажу когда-нибудь потом; пока я счастлив настоящим, мне не хотелось бы ранить тех, для кого я значил что-то в прошедшем.
Когда мы переехали в Юрмалу, родители оставили нас на попечение тети Сарры, родной папиной сестры, и уехали в Олу, чтобы заработать деньги, которых недоставало для возмещения долгов за покупку дома в Майори. В большом доме разместились несколько семей Шифриных: семья папиного брата Гесселя, только что сложившиеся ячейки двух его дочерей, и наша «опекунша» со своей дочерью – моей кузиной Верой.
Элька продолжил учебу в средней школе в Дубулты, а меня отправили учиться в продленку – восьмилетнюю школу в Булдури.
В четвертом классе, в котором я начал учиться с 1 сентября, в середине года появился еще один ученик – Гриша Смирин. Его семья приехала из Десны, он разговаривал со смешным белорусским акцентом – «шéесят» вместо «шестьдесят», а звук «с» под наш заливистый хохот произносил как мягкий «ш».
Мы были неразлучны до десятого класса, нас сблизили происхождение и белорусские корни родителей, а кроме того, соседство – Гриня жил на параллельной улице, буквально наискосок от нашего дома.
В девятом классе бывшей Элькиной школы, которая теперь переместилась в лесок у станции Яундубулты, мы опять сели за одну парту, по утрам я списывал у Смирина домашние работы по химии и алгебре. Вместе мы много времени отводили основанному Гришей радиоузлу и созданному на пару школьному театру.
Потом я уехал в Москву, мы продолжали дружить в мои приезды на каникулы, и как-то раз наш общий московский знакомый, которого я однажды свел с Гриней на предмет летнего отдыха, поведал мне шутливую небылицу о моей матери – байку, в авторстве которой мне не пришлось ни минуты сомневаться.
Этого было достаточно, чтобы больше никогда не вспоминать о Грине. Много лет спустя мы сошлись с ним на съемках программы «Возвращение домой», где авторы подстроили нам встречу. В гостинице, в которую Смирин зашел, чтобы обменяться книгами, я не позвал его к себе. Прямо у стойки регистрации вручил ему свою первую книжку «Театр имени меня», получил из его рук написанную им книгу «Выдающиеся евреи Латвии», где мне отводился целый разворот, и, сославшись на неважное самочувствие, вернулся к себе в номер.
Гриша много сделал для изучения истории евреев в республике, которая стала теперь отдельной страной, получил степень доктора истории, а несколько лет назад я получил сообщение о том, что его не стало.
Паблик «Юрмала» на Фейсбуке попросил меня тогда написать несколько слов. У меня получилось чуть больше, чем несколько:
Мы сидели за одной партой семь лет.
Вот эти несколько слов. А дальше – слова кончаются. Потому что я не могу справиться с болью, которую причиняют мне сейчас навалившиеся воспоминания. Мы жили на соседних улицах, висели на телефоне сразу же после расставания. Открыли школьный театр «Не рыдай». Вместе хотели ехать в Москву. Я поехал. Он поступил на журфак.
Я вернулся и через год поступил на филфак в том же университетском здании. Возвращались в Юрмалу на одной электричке.
Потом время развело нас. Так бывает, когда дружба вдруг обрывается, потому что заняла целую жизнь, которая закончилась. И началась новая – с другими дружбами, с другими друзьями.
Гриня, мой дорогой человек, прими это запоздалое «прости» в своем инобытии. Я тебя помню. Я тебя очень ценю.
Я должен был сказать тебе это намного раньше…
* * *Из всех семейных раритетов самые дорогие для меня: мамина трикотажная кофточка, в которой ее увезли в больницу и шнурок от которой я держал в бумажнике, пока его не украли из гостиничного номера в Туапсе, простенькое янтарное колечко – единственное мамино украшение – и магнитная кассета с записью нашего разговора, нечто вроде интервью о ее местечковом детстве, об учебе в ФЗУ в Нижнем Новгороде и о работе в Итум-Кале – вся биография до самой войны. Первое время без мамы кассета была гарантом нашей незримой связи, когда я не мог заставить себя слышать ослабший мамин голос, а потом, после разных уборок и перестановок, она затерялась среди других, не нужных мне кассет. Корить себя было мало, это был явный знак того, что мама мной недовольна, и я не мог не знать причины ее строгости. Слава богу, что индульгенция вышла в виде награды за мой безгрешный труд: после очередных мучительных гастролей пропажа, как ни в чем не бывало, обнаружилась в пластмассовой кассетнице, тем самым как бы извиняя мою беспечность и возвращая возможность разговаривать с мамой в любой момент…
* * *Автограф Райкина у меня уже был. Мне был нужен автограф Быстрицкой. Осень 1969 года в Юрмале выдалась жаркой.
Я преследовал их с Райкиным и еще каким-то человеком, который составлял им компанию, от самой Курортной поликлиники в Майори до Дубулуты, когда они гуляли вдоль залива. И вступая в следы, оставленные Аркадием Исааковичем на песке, чуть было не уткнулся в обоих, когда Быстрицкая обернулась и поинтересовалась, не нужно ли мне чего от них.
Мне было нужно! Автограф. Для которого не нашлось ни ручки, ни открытки.
Встреча была назначена на следующий день на скамеечке санатория Совета Министров. Актриса провела со мной едва ли не полчаса доброго разговора, подписала целый ворох своих фотографий, которые я принес из дома. А на следующий год, в Концертном зале Дзинтари, когда я вымахал на целую голову за лето, даже узнала меня.
В Москве мы встречались в сборных концертах, но, готовясь к концерту в одной гримерке, мне не хотелось напоминать ей об этом. Став артистом, я понял, как быстро выветриваются эти встречи, много значащие для нас, обычных поклонников, из актерской памяти.
В конце концов, Быстрицкой пришлось бы соврать, что она меня помнит, а мне пришлось бы соврать, что я ей поверил.
* * *Мой генетический код, видимо, должен попахивать марихуаной. Я – правнук и внук маслобойщиков. Мои предки выжимали масло из семян конопли.
Не знаю, каким образом трансформировалась заложенная тяга, но конопля меня никогда не занимала. Меня интересовал сам феномен растительного масла, от которого не вставит даже самого изобретательного наркомана, – кукурузного, оливкового, подсолнечного. Как его приготавливают, с чем едят, что лечат…
Американского мужа моей племянницы однажды вытошнило за столом, когда русские родственники щедро полили салат рыночным подсолнечным маслом.
Папа привил уважение к маслу оливковому. Не знаю уж, какой квалификации энтеролог прописал ему принимать его натощак: от всех колитов и гастритов.
У папиного товарища, с которым мы делили общую квартиру в Москве, было другое снадобье: все полки в холодильнике и обеденный стол вечно покрывали подтеки от бывшей облепихи.
Будучи в Иркутске, мы с Татьяной Васильевой запаслись кедровым маслом. Когда поинтересовались, отчего оно такое дорогое, нас вразумили: это ж сколько кедровых орешков надо расколоть, чтобы отжать потом ядрышек на аптечный флакончик.
А вот же есть еще льняное. Проще, кажется, проглотить рыбьего жиру…
А еще – хлопковое и рапсовое…
А есть еще то, что рекламируют по телевизору, – что и вовсе не пахнет никаким маслом…
Однажды я сдуру полил пельмени оливковым маслом. Доедали всю порцию дворовые кошки. Их предки вряд ли шныряли по углам конопляной маслобойки.
* * *Мама всегда открывала форточку, папа – методично прикрывал.
Этот диалог мистическим образом продолжается во мне. Правда, теперь папа во мне гораздо чаще подходит к форточке, чтобы убедиться, что она закрыта.
Мама всегда жила предчувствием будущего, в той же степени, в какой я живу переживанием прошлого. Летом мы сдавали пол-этажа дачникам – стремительно старевшие родители хотели увидеть нас с братом крепко стоящими на ногах. А в год Элькиного поступления в консерваторию сдали и нашу с ним комнату, поселив там троих мужчин-одиночек. Сначала я появлялся там перед самым сном – очень стесняясь, а потом даже с затаенным восторгом, – и блаженно засыпал после таинственных пересудов жильцов. В ночном воздухе витал пряный дух холостяцкого бесстыдства, и я отчетливо запомнил, как один из парней, кудрявый блондин с исполинской фигурой, однажды, томно потягиваясь под одеялом, зевая, произнес:
– Всю ночь мне будут сниться мои бляди.
Я помню ключи от дома в Юрмале, вернее, старый раритетный ключ от нижнего замка – черный, с головкой, похожей на вензель. В доме всегда кто-то был, и мне не приходилось носить с собой эту громадную отмычку.
Папа, перед тем как стал жить в больнице больше, чем дома, готовил мне яичницу с помидорами и непревзойденно пек картофельные оладьи с хрустящей корочкой. И я помню, что свет в кухне был желтый, каким бывает свет от фонаря на улице, и в этой болезненной желтизне, над паром, идущим от плиты – лицо, которое я не успел зацеловать и, к несчастью, – сохранить в памяти со всеми морщинками.
* * *Моя первая атлетическая тренировка случилась, когда я тащил эти проклятые гантели из спортивного магазина на Йомас к себе домой.
Разве это шутки – хромать с двенадцатью килограммами железа в те годы, когда я не поднимал ничего тяжелее топора? От бесконечных переделок нашего дома на Конкордияс в сарае скопилось много бревен и досок. Чтобы разжечь котел отопления в подвале, нужно было распилить или расколоть их на дрова. Иногда на старых козлах мы пилили вместе с папой, иногда – с Элькой. Потом я ставил полено на пенек и порою гордо крушил и то, и другое надвое.
Самый любимый урок – литература, ненавистный – физра. Саша Калери, грезивший о космосе, тогда классом младше меня, по вечерам ходил в спортивную секцию при школе, в которую меня отправил Геннадий Иваныч Таничев – преподаватель физкультуры и одновременно вождения грузового автомобиля ГАЗ-51а. С вождением у меня получалось лучше. Играть в баскетбол или в футбол я не рвался. Снимать треники в раздевалке было выше моих сил. Рядом со скульптурным Сашей, на цыпочках нырявшим под душ, стыдно было стоять даже в трениках.
Муж моей кузины Веры сначала снабжал меня сигаретами – тогда курение в нашем возрасте считалось меньшим грехом, чем онанизм. Но моя физическая слабость выводила Алика из себя. Однажды он подарил мне маленькую брошюру «Развивай силу», на обложке которой был изображен парень, похожий на Калери, но только в выигрышной позе «бицепс сбоку».
Больше всего мне понравились изометрические упражнения. Через много лет после этого я могу подтвердить, что они реально работают: я стал меняться внешне благодаря им, а потом и гантелям, но во дворе меня по-прежнему ставили на воротах. А на пляже уже разрешали становиться в круг взрослых игроков. Все остальное случилось на ваших глазах. В тридцать семь лет я снова вернулся в спортзал. И когда спустя сорок c лишним лет мы встретились с Сашей Калери в телевизионной программе Димы Борисова, я выглядел даже чуть плотнее, чем наш знаменитый космонавт.
* * *Мама изощренно готовила все, что ей из-за диабета нельзя было даже пробовать: тейглах – шарики из теста в меду, имберлах – кусочки мацы, тоже запеченные в меду и обсыпанные имбирем, запеканку из мацы и интернациональное блюдо – «колбасный» торт из какао и крошеного печенья. Я обожал ее куриный бульон с клецками из мацовой муки. А еще мама пекла грибочки из теста, раскрашивая шляпки сгущенным какао, а ножки погружая в мак, чтобы было ощущение, что их недавно вытащили из земли. Когда гости нахваливали эти кондитерские маслята, они обыкновенно отпускали один и тот же комплимент: «Просто как настоящие». Мама привычно кокетничала: «Они и есть настоящие. Я собрала их в лесу». Если папа замечал, что она тихонько пробует «колбасный торт», он бросал на нее недоумевающий взгляд, на который мама тут же отвечала: «Я только подровняла…»
* * *Еще подумают, что эти полвека я только и ждал, чтобы отыграться на нем. Нет, тут дело не в давней и давно прощенной обиде. Я вспоминаю об этом только потому, что жизнь меня отчасти как бы поставила на его место. То есть у меня теперь тоже берут автографы и, в отличие от тех далеких лет, когда не было даже «мыльниц», беспрестанно просят сфотографироваться.
Я не очень люблю слово «медийный», понимая, что обычные люди «не медийны» – только потому, что о них не судачит огромное количество людей и их реже показывают по телевизору.
Кажется, это был 1966 год. Я жил в Риге и не пропускал ни одной встречи с «живыми» артистами. На своих вечерах они рассказывали всякие смешные байки о съемках и перемежали их роликами из фильмов – в Концертном зале Академии наук или в Доме офицеров. Иногда, правда, надо было добираться до Дома культуры завода ВЭФ. Но этот зал зрители любили меньше и охотнее спешили к своим любимцам прямо в центр города.
Когда встреча с молодым Никитой Михалковым закончилась и зрителям предстояло еще раз посмотреть «Я шагаю по Москве», я ринулся за кулисы. Молодой и обожаемый тогда всеми артист чуть не подмигнул мне: «Зачем сейчас? Закончится фильм, подходи – и я распишусь на твоей открытке!» Я, ерзая в кресле, еле досидел до финального титра. И опять побежал за кулисы. Моего кумира там уже не было.
– Мальчик, он ушел сразу после встречи.
– Как? Он велел мне зайти после того, как закончится кино.
– Нет-нет, сразу ушел… Зачем ему тут сидеть?
Что это было? Заплакать, как тогда, вспоминая это, у меня уже не получится. Это ведь только я, глупыш, мог подумать, что знаменитый артист на протяжении всего фильма будет ждать восторженного очкарика за кулисами? Но что мешало ему тут же расписаться на моей открытке и, как сейчас это делаю я, даже по-свойски похлопать подростка по плечу?
Сорок лет я никогда и никому не отказываю в автографах. Разве что морщу нос, когда для этого мне подсовывают купюры. Я слишком хорошо помню, какой горькой обидой отзывается такой отказ. А вот фотографироваться с незнакомцами и вправду не люблю… Особенно на выходе из вокзального туалета или с сумками у трапа…
* * *Г. Красавцев рассказывает:
Я ездил в школу из Булдури. Каждый раз спешил на электричку, чтобы проехать Дзинтари, Дубулты и сойти в Яундубулты. Там, через лесок, была наша школа. Сейчас, я понимаю, школа – очень хорошая. Я пришел в 8-й класс – зимой. И сразу понадобились лыжи. Лыжи мы оставляли в гардеробе. И два раза в неделю – крутили вокруг школы. Километров по пять, я думаю. Это Латвия, где климат на две недели теплее, чем в Питере.
В девятый класс к нам пришел мальчик – Фима. Из какой-то восьмилетки (школы были – или восьмилетки, или десятилетки). Пришел и пришел. В учебе не выделялся, в лидерах (хулиганах) не замечен. Для меня более важно было другое. Каждый раз, когда я ждал электричку в Булдури, на перроне была девочка – в полосатой, типа шотландской, юбке. Я был в состоянии непреходящей влюбленности.
Потом Фима создал школьный театр, а потом – стал знаменитым.
Нашим классным руководителем была учительница истории – Гроскопф Лидия Францевна. Она была большая, с громким голосом. Еще она была дочерью красного латышского стрелка. Собственно, это была ее идея – поход по местам боевой славы латышских стрелков. Для нас стрелки, не стрелки – по барабану. Но для похода мы подготовились: трехлитровая канистра – отравы. Тогда в моде был портвейн – «Солнцедар». Лидия Францевна, конечно, узнала про канистру. Пришлось соврать, что это Мусаилу прислали родственники из Армении – сухое вино. Она попробовала – одобрила. А дальше мы напились. Мы лезли к девчонкам в палатку и вообще вели себя буйно. Это продолжалось долго. Попалась какая-то лягушка – и, как назло, выяснилось, что Фима «не любит лягушек». Естественно, все лягушки, которые были рядом, – оказались у него в палатке. Фима убежал к девочкам. Но девочки тоже не любили лягушек. Потом нам с Мусаилом досталось.
На втором курсе я поехал в Москву с Сашкой Праведниковым – моим соседом по Юрмале и тоже студентом Политеха. Помимо прочего, была цель – навестить Фиму. Пришли в училище циркового и эстрадного искусства на улице Марины Расковой. Фимы не было. У него было фортепиано. Потом я приезжал в Москву один. И мы встретились. С ним была девушка, ее звали Барсучка, а педагогом был не очень знаменитый режиссер – Роман Виктюк.
Потом, уже в Питере, узнав, что приехал Шифрин, я позвонил и попросил его прийти на Литейный в управление КГБ. Фима поверил. Это был хороший розыгрыш. Потом он пригласил меня в Дом актера на Невском. Мы пили коньяк. Там была его партнерша – Клара Новикова. Я спросил, кто это, после чего она очень расстроилась.
Потом Фима приезжал не раз в Питер. Я забирал его домой, и мы пили коньяк, только что привезенный из Греции. Последний раз он оставил нам контрамарки, и мы с Лорой ходили смотреть его спектакль. Еще на какой-то, кажется 2012-й, Новый год он снимался, в Питере в фильме про короля, и мы с внуком Петей приехали на Ленфильм. Было очень прикольно: известные лица, плюс холодные помещения Ленфильма, плюс – то ли подзажатый, то ли – без интереса – Петр.
Да, чуть не забыл: как-то Фима, празднуя день рождения, пригласил почти весь девятый класс. Танцевали, пили, веселились. Потом мне стало плохо. Почему-то запомнил, что спасала меня Фимина мама.
* * *«Если бы наша мама была некрасивая, ты бы не женился на ней?» Папу трудно было поймать на крючок. Мои и Элькины вопросы никогда не ставили его в тупик, потому что он знал все. В редких случаях он говорил: «Посмотри сам. В словаре или в энциклопедии».
На этот вопрос трудно было найти ответ в словаре или энциклопедии. «Женился бы или нет?» – повторял я, пока отец, морща лоб, подыскивал слова для непростого ответа. Я догадывался, что вариантов нет: его мужской выбор не мог быть связан лишь с маминой красотой. Но папа ответил так, как ответил, и это был самый горький и неожиданный вариант.
«Нет».
За этим следовали какие-то объяснения, которыми взрослые обычно смягчают резкие истины.
Ответ прозвучал. И мое сердце забилось. То есть, если бы мама была некрасивой, я бы у нее не родился. Значит, если бы мама была такой же, какой была – полной, теплой, пахнущей «Красной Москвой» и сладкими тейглах, но некрасивой, – она бы никогда не стала моей мамой.
Но ведь он женился на ней, будучи совсем некрасивым. Почему же она выбрала его, такого близорукого, горбоносого, с металлическими зубами, «врага народа», лагерного зэка, пожизненного поселенца из самого сумрачного края страны?
Я рассматривал маму и пытался мысленно сделать ее некрасивой, убирая улыбку с двумя рядами белоснежных зубов, укрупняя нос и бороздя морщинами ее гладкую кожу. Легче было сделать папу красавцем, сняв толстые очки, выпрямив нос и забелив металлические зубы. Почему он мне так ответил? Что для него значит «некрасивый человек»?
У меня теперь есть ответы на эти вопросы. Я давно простил папу за честный ответ. Но теперь, по прошествии долгих лет, знаю, что он все же должен был сказать так: «Твоя мама не могла быть некрасивой».
* * *Все перемешано. Хорошее и плохое. Но, главное, это проверено не раз: в неважном человеке в трудную минуту иногда проявляется хорошее… а говно – оно как константа. Ну, то есть без трудной минуты – есть и есть.
Боже, как нас не убили тогда! В маленьком скверике у Дома композиторов. Откуда в центре Москвы появились тогда эти гастролеры?
– Это же Фима-а-а-а! – кричал им Валька, когда кто-то из них дал мне тычку, от которой у меня все обесточилось внутри. – Что вы делаете, это же Фима! – вопил он на всю Москву, как будто им было не все равно, как кого зовут в этой мирной компании первокурсников, тихо посасывавших портвейн в пяти минутах ходьбы от Красной площади.
Вальку для устрашения они тогда полоснули ножом – просто оставив отметины на сгибе локтя в память о нашей встрече. А Владик Антонов тогда исчез. Ушел огородами от завязавшейся драки. В тот же вечер мы снова встретили его на улице Горького и задохнулись, увидев его фланирующим без цели. Как он мог сбежать, когда нас с Валькой уже били?
Мы с Валькой снимали комнаты в центре Москвы и очень дружили.
Годы спустя, когда нам уже не грозили ни драки, ни покушения, мы встретились на сочинском пляже. Я болтал со своим приятелем, профессором Московского университета Коршуновым, отцом невероятно талантливой девочки, юной пианистки, которая потом умерла в самом расцвете своей детской славы. Валька нарисовался рядом с нашим лежаком и, как всегда, легко подключился к беседе. За эти годы нас развели с ним разные дороги и отчасти его несносный язык, который отчего-то страшно развязался за годы, что мы не виделись…
Мне нужно было подняться в номер, где я пробыл не больше получаса, а когда вернулся на пляж, застал профессора в одиночестве – побледневшим и еле живым от испуга.
– Вы дружите с этим человеком? – робко спросил меня он.
– Да, когда-то мы очень дружили…
– Но он позволил себе так дурно говорить о вас…
– Это он может…
– Но если вы это знаете, разве можно продолжать общение с ним?
Наивный профессор. Где-то он сейчас?
У Вали сложилась славная жизнь европейской знаменитости, и, возможно, его язык ни разу не помешал буйной карьере.
Однажды я пригласил его в «Приют комедиантов» на свой юбилей. Валька чуть не сорвал съемку, отправляя в корзину всякий кадр своей пьяной болтовней и дымом не затухавшей ни на минуту сигары.
Он очень талантливый человек. Одно время у меня было подозрение, что он гениальный.
Еще лет пять назад, когда у меня высвечивался его телефон, я уже не отвечал на вызов.
– Это же Валя-я-я, – говорил я себе.
Как будто для меня еще имело значение то, как звали когда-то моего гениального однокурсника…
* * *Вы эти аффирмации знаете? Ну, это типа как мантры. У целительницы Луизы Хей – их целый список. Такие внушения самому себе. Чаще – утвердительные. Кажется, у нашего Владимира Леви еще было: «Я спокоен, спокоен…»
У всех целителей – это сейчас коронная штука. Надо разговаривать с самим собой и убеждать себя, что все прекрасно. Печень – чистая, яички – прекрасные. Голова – светла. Сердце – полно радости.
Все это у нас не работает. Для наших людей это пустой звук.
Восторг, с которым разбираются самые поганые новости, бурнее множественного оргазма.
Скорость, с которой слетаются на дрянь, несусветицу, подонство, – стремительнее реактивной.
Мантра «чтоб все сдохли» востребованнее любой молитвы.
Отчего люди не летают – понятно.
Но отчего для нас так привлекательно зло – загадка.
Буду ее решать, чтоб вам всем пусто было…
* * *Павел Брюн вспоминает:
Есть в Москве расчудесный переулок. Холмистый. С застройкой, пережившей пожар 1812 года. Малый Ивановский называется. Боком он примыкает к Ивановскому монастырю, что на Китай-городе, а одним из своих хвостов – почти что упирается в Спасо-Глинищевский, где находится старая Московская хоральная синагога.
Так вот, до войны 1812 года и, соответственно, – до пожара, с ней связанного, построил кто-то в Малом Ивановском переулке домик о двух этажах. Неоднократно реконструированный, жив он и поныне. Но в последние годы кто-то предусмотрительно и капитально отгородил его от посторонних глаз и, судя по всему, единолично занял.
А лет сорок тому назад домик этот представлял собой не что иное, как отдельно стоящую коммунальную квартиру. Можно сказать, коммунальный особняк. Именно так!