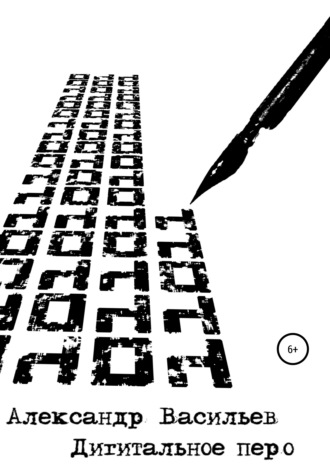 полная версия
полная версияДигитальное перо
– Ты вызвала медскор? – она мне коротко кивнула, – тогда пошли.
Грин не смотрел на меня. Его голова было опущена. Он вцепился в меня и сам попытался идти. Я пошёл с ним в такт, не давая ему упасть. Я чувствовал, что сил у него не много, но он их всех хочет израсходовать на то, чтобы убраться отсюда. От меня ему лишь требовалась помощь, чтобы идти. Спорить сейчас не стоило, тем более что я сам хотел его быстрей передать в руки медикам. Энжела хотела помощь, но с другой стороны подхватить его под руку было невозможно. Я предполагал, что она сломана.
Мы добрались до лифта. Мы с Энжелой понимали, что сейчас каждая секунда на вес золота. Лифт пришёл быстро и мы стали опускаться на первый этаж. Пока мы ехали, я попеременно смотрел то на него, то на неё. Она же не отрывала свой взгляд от Грина, слёзы, не переставая, катились по щекам, но она не проронила ни звука. Он висел у меня на плече безвольный и совершенно беззащитный. Но ещё держался за меня, хоть и слабо.
Холл, как и всегда, не был закрыт. Пока мы шли от лифта, я ещё подумал, где бы лучше дожидаться медиков: в фойе или на улице. Казалось, что снаружи хоть и быстрее для посадки в машину, но всё же холодно. Но думать и по этому поводу не пришлось. Знакомые сигнальные огни замелькали невдалеке, поэтому мы поспешили на выход. Когда мы преодолели двери, работники медскора уже спешили навстречу. Постепенно оттеснив нас, они переняли Грина. Он просто рухнул к ним в руки. Они аккуратно уложили его на каталку и очень быстро, отточенными движениями затолкнули её внутрь машины. Мы еле успели впрыгнуть за ними. Нас особенно никто не приглашал и, в общем-то, уехали бы и без нас. Нам повезло, что там были свободные сидячие места, стоять бы нам, конечно, никто не позволил. Когда мы тронулись, я почувствовал, что внутри что-то оборвалось.
Пока мы ехали, Грину разрезали одежду и быстро ощупали. Было сделано несколько уколов, каким-то сложным устройством ему обеспечили дыхание. Он был без сознания. Лица врачей были напряженные и слегка лоснились потом. Виделось, что не было сделано ни одного лишнего движения, как ими самими, так в отношении поступившего пациента. Всё было отточено до мелочей и за время следования они не проронили ни слова, хотя постоянно работали на пару. На нас же с Энжелой внимания не обращали вовсе.
То о чём мы договорились в клубе перед этим всем, оказалось пустым. Никто всего этого не предполагал. И ничто до этого, этого не стоило. Я не мог сейчас найти причину проникнуть в «Цусиму», если бы знал, чем это закончится. Я жалел, что допустил всё это. Но это теперь уже стало прошлым. Которого не ждут. Что сейчас происходило с Энжелой, я бы сказать не взялся. Лишь одно я тогда видел: мне казалось, что она не выпустит его и на секунду из поля зрения. Может быть, это было единственное ценное из всего того, что имело хоть какую-то ценность на данный момент.
Когда мы приехали в подземный больничный терминал приёма больных и задние двери машины открылись, мы ссыпались, как можно быстрее и отошли в стороны, чтобы не мешать. Каталка с Грином и врачами медскора скрылась в недрах приемного отделения, мы же медленно, не переговариваясь, пошли в ту же сторону за ними. Было понятно, что теперь торопиться уже некуда. Надо будет оформить поступление, и дальше было вообще непонятно что. Мы молча шли, в голове всё было ватным, ни одной мысли не проскальзывало, думать ни о чём не хотелось.
Так мы оказались у медпоста, и я молча, взглядом показал Энжеле, чтобы она села на коридорные кресла, и что я сам здесь разберусь. Она медленно подошла и присела на крайнее. Поджав колени, она опустила в руки лицо. Я уж было начать диктовать данные смотрящей внимательно на меня медсестре, но увидел, что плечи Энжелы начали мелко трястись.
– Простите, – сказала я женщине в белой медформе, – я подойду позже. Мы никуда не уйдём.
Та понимающе кивнула, а я пошёл к беззвучно плачущей молодой девушке, которую, казалось, окружает такое одиночество, из-за которого утра на этой планете уже не будет никогда.
Глава 18 (воскресенье) Больница.
Ночь сколько не длится, всё равно проходит. Несколько раз в жизни я наблюдал такое. Разговаривая с кем-нибудь это время напролёт, кажется, что минут окрашенных тёмным временем суток ещё достаточно. Ты то борешься со сном, то воспреваешь от разговора вновь. Ты не хочешь, чтобы пришёл день. День всё поменяет, и это сделает даже утро. Даже оно сначала разбавит свет, потом наполнит тишину разными звуками от осторожного шороханья до суетного стучания соседскими дверьми. Они будут предвестниками новых событий, как, например, раньше, где-то там на Земле шаги почтальона предшествовали долгожданному письму. Земля очень далеко, почтальонов больше нет и, это было очень странно, что никаких событий не происходило.
Медперсонал во всю спешил по коридору, то шурша халатами, то подшоркивая обувью. Мимо прокатывались колёсные носилки, инвалидные каталки то с пациентом, то без. Люди, пришедшие с улицы, что-то выспрашивали у медпоста. Некоторые отряхивали подтаявший снег, снимали одежду и проходили, некоторые разворачивались, что-то выслушав, и шли обратно. Кто-то садился в кресла или на маленькие диванчики для ожидания, кто-то неспокойно начинал ходить по коридору взад-вперёд. Приёмный холл наполнялся.
На одном из таких диванчиков были и мы. Энжела, вымотавшись в тягостном ожидании за ночь, наконец, уснула. Она лежала, поджав под себя ноги без ботинок, положив голову на валик сделанный из собственно куртки, всё остальное небольшое свободное диванное пространство оставив мне. Своей курткой укрыл её уже я, когда убедился, что она спит. Я очень хотел, чтобы она хоть немного поспала. Мне было всё труднее и труднее смотреть на то, как в ней стираются все силы от ожидания новостей. Уже под конец было видно, что любая весть, хорошая или плохая, свалила бы её в обморок. Так что, как-то уговорив её прилечь и через полчаса обнаружив спящей, я был рад, что она хоть на немного выпадет из этого кошмара и отдохнёт. Более того, я думал, что если известия будут неутешительные, то лучше уж пусть их всех принесут первому мне, чтобы я мог успеть подобрать слова для неё. Хотя много ли бы это поменяло? И ждать ничего хорошего всё равно не приходилось.
Грин ввалился в кому, и его спасали всю ночь. Подробности нам были неизвестны. Мы задёргали медсестру, но кроме ответа, что всё ещё идёт операция, ничего не получили. Она несколько раз нам сказала, что при поступлении новой информации обратится к нам сама, но каждый раз, не выдерживая давления времени, мы подходили преждевременно к ней. Пока что сутью всего было то, что Грин оставался живым. С непонятным тяжелым чувством я отметил, что этого пока может и достаточно. Я сам хотел бы привалиться к спинке дивана и хоть ненадолго переждать всё это с закрытыми глазами. Но образы, которые являлись мне, как только я пытался выпасть из действительности, были такими страшными, что кроме как проводить время в ожидании ничего не хотелось. Пару предрассветных часов я провел за лэптопом, но когда поймал себя на мысли, что уже пятнадцать минут просто пялюсь в угол визора, убрал его обратно в рюкзак. Было тошно.
А, тем не менее, начинался новый день. Он был выходным, но для тех, кто его жаждал, было принято или, во всяком случае, считалось нормальным, не хотя, встать, наспех умыться и с завтраком или без добираться до работы. Или учёбы, или службы, или что там ещё придумано, чтобы осмысленно заполнить жизненное время. В этом осмысленном все мы преуспели, сзади должен оставаться чёткий след, впереди должен быть намечен определённый результат. А что делать с тем, что не осмысленно? И что ещё не успело или не смогло вписаться в текущую жизнь? Оно ж тем не менее есть, найдём мы время на него или нет. А если на осмысление этого неосмысленного может уйти вся жизнь, стоит ли тратиться на такой труд? Нет, мы, конечно, в будущее заглядывать не умеем и оценить заранее не можем: сколько времени мы потратим на то, что ещё не понимаем. И тем ещё труднее отдать вот эти минуты, которые ты проживаешь именно сейчас, на то, что полезным или интересным может и не будет никогда. Ни для тебя и ни для других. И в разы сложнее принимать, что понятое тобой нужное и любопытное ценности для других может и не иметь. Хорошо ещё если ценой окажется смех доброго знакомого, который похлопает тебя по спине и от души искренне объяснит тебе, какой ерундой ты занимаешься. Соперник или враг может всадить тебе зазевашемуся на невиданные чудеса стилет в сердце по самую рукоять, и вот уже время, в котором ты был так необходим и востребован идёт, и не помня, что такой человек, как ты, вообще существовал. Тут поневоле подумаешь, надо ли знать тебе это неосмысленное?
Жизнь на проверку оказывается пустой, если ты хотя бы не попытался понять то, что в жизнь не вписывается, но, тем не менее, осязаемо существует рядом с тобой. Можно быть уверенным, что если ты ничего делать не будешь, существовать это неизвестное тоже будет недолго. Оно исчезнет и, есть подозрения, что навсегда. Время сделает так, что даже если оно и останется в принципе, то второй раз почувствовать ты его уже не сможешь, так как изменишься сам, другими словами – всё равно потеряешь. Одной и той же водой два раза не напиться. И поэтому выбор, который может иметь самые крайние и непредсказуемые последствия, которые не видны из настоящего, которые потом уже сами, тебя не спрашивая, поменяют всё в твоей жизни, этот выбор можно сделать только сейчас, в эту же секунду, практически слепо. И ведь в том-то всё и дело, что другого момента может и не быть. Осязаемое неосмысленное растворится и придётся дальше заполнять пустоты жизненного времени вполне осмысленными и от этого порой неосязаемыми делами и заботами. И может быть, проиграв эту эфемерную погоню, появляются лучшие из коридорных корифеев.
Так вот новый день. Он был не совсем выходным в полном понимании этого слова. Сегодня не стоило бы заниматься концом недели в деловом или рабочем смысле этого слова. Сегодня был праздник и завтра ещё и официальный выходной. “День высадки”. Когда-то мы прилетели сюда, в одних источника говорится об экспансии, в других об освоении космоса. Лично мне было всё равно, потому что это осталось в прошлом. Жизнь на планете Синея всё равно пошла своим ходом. В галактическом масштабе мы – провинция. Какие амбиции не преследовали те, кто здесь был первыми, всё равно глобально, кроме добычи кремниевой руды, превращения выработки в силиконы и развития высоких технологий на их основе, мы тут ничего не делаем. Даже весь этот хай-тек, суть которого и составляет Парнас, Земле особенно не нужен. Университетов и на других планетах полно. Главное здесь – это местный, чистый, в необъятных количествах кремний. Без которого и хай-тек – не хай-тек, и космос – не космос. Из-за этого полезного ископаемого мы ещё в Лиге, всё остальное не так уж и интересно. Хотите осваивать планету дальше – пожалуйста! Добычу только не прекращайте, а то лавочка свернётся довольно быстро. Отгрузка по графику. Лет триста мы уже здесь.
А ведь нормально знаем только гранитный материк. Заокеанский, лесной, полностью изучить времени так и не нашлось. И поэтому гибнут там до сих пор врачи и лаборанты, биологи и разведчики от эпидемий, и не помогают им ни новые приборы, ни средства защиты, ни высоко-проходимый транспорт. Вопросы остаются без ответов, научный труд без результатов, а внуки без дедов. И пока что серьёзно не понятно – кому и зачем это надо? Видимо, порой осязаемое неосмысленное принимает и гигантские по географическим меркам размеры.
И поэтому раз в год каждый из нас может задать себе в свете такого дня вопрос: что я, землянин по происхождению, уже которое столетие делаю здесь? Правда, чтобы задать такой вопрос, надо, как минимум, на уроках истории не рубится на ассемблере в смайложора. Ведь ответ на него не совсем логичный. Или уж точно не последовательный. И начать его надо с того, что мы, люди, сами себя здесь непонятно за кого считаем.
Конечно, все или почти все мы думаем, что это наш дом, Родина, отчизна и планетная колыбель. Что хоть мы и люди, но мы – синейцы. Внешне от землян мы не отличаемся ничем. Как мы вообще можем внешне отличаться? Но даже те немногие, кто прилетает из космоса с инспекцией в синейский порт, или даже те, кто работает в портовой конторе, которая стоит не то что поодаль от города – вообще в другую сторону от стартовых площадок, относятся к нам с таким аристократическим апломбом, что иногда, кажется, и хорошо, что родились мы именно здесь и не такие, как они. Вот вырос бы землянином и вытирал бы ноги об остальных, тех, кто родился хоть в километре от родной планеты. Обидней всего, что некоторые работники Контролы, так прозвали у нас контору при порте, родом отсюда, но почтут за счастье, чтобы земляне в их отношении забыли, что они местные. И ведь надо помнить, что бывают такие люди. Они живут с тобой рядом и разделяют всю эту жизнь, но потом, как салфеткой, вытирают тобой туфли и выбрасывают, больше о таких мелочах, как ты, не вспоминая. Как такие появляются на Земле можно долго фантазировать, но как такие появляются здесь не укладывается в голове.
Но из этого видно, что преодолев столько световых лет, уже не говоря об усилиях на это положенных, вопрос о нашей целесообразности здесь остаётся открытым. Этому миру мы ничего нового не принесли, а то, что здесь мораль и этика, оставшись в некоторой изоляции, начали своё собственное развитие, тоже не новость. Все люди всегда разные, и на Земле, и ещё где-то на освоенных планетах. Мораль и так далее – это вообще дела наши, людские, Синее это триста лет было всё равно и ещё до нас столько же, если не говорить ещё более глобально. Мы хоть планетам научились не наносить ущерб, и то ладно. Но суть от этого не меняется, раз даже до сих пор нам самим непонятно: экспансия это была или освоение? Убеждения историков на поверку оказались разные, не смотря на время высоких технологий и тотального документирования. Сам я так и не разобрался. Помнится, в конце собственного исследования я был безрезультатно уставшим, таким как сейчас.
Это хорошо, что не надо в это утро торопиться на работу. Туда всё равно придётся пойти, отгул в выходной брать, вообще, как-то странно. Но даже не в этом дело. Я должен знать, что там происходит, и если я хоть немного ценю своё начальство, то обязан явиться и всё объяснить. А начальство своё я ценил. И знал, что почти все сегодня в Парнасе.
Карманник же всё время извещал, что Бертыч и Градский завалили меня сообщениями. Чем они занимались, не было понятно, но они оба хотели встретиться. Они должны были составить мнение об Эдисоне. Я не мог сконцентрироваться на том, что их послания тоже важны. Ничего не казалось важным. Я себя поймал на мысли, что не понимаю какими словами им объяснить, что я делаю в больнице. Но о том, что произошло, они всё равно должны узнать.
Ещё несколько долгих минут я провёл, не отводя взгляда от пола. От неспособности связать воедино всё происходящее на меня нашло затмение. От этих минут осталось лишь воспоминание, что я сидел, и то только потому, что подошедшая медсестра потрясла меня осторожно за плечо, и я очнулся в этой позе. Я не помню этих минут, не помню их количество. Я только знаю, что они стёрты и то о чём я думал, если думал, в течении них, никто и никогда не узнает, даже я.
– Что вы хотели? – едва слышно спросил я, через секунду до меня дошло, что видимо есть новости, но заботливая работница медперсонала опередила меня.
– Ваш знакомый переведён в интенсивную терапию, но врач будет говорить только с родными, – сказала она, – Врач тоже сразу не придёт, его придётся ждать, если вы намерены остаться.
Вежливым знаком, бессловно я попросил её прерваться, и мы с ней отошли в сторону. Она ещё немного рассказала то, что могла в условиях врачебной тайны. Но Грин был жив, это оставалось главным. Я сказал медсестре, что всё понимаю, и она вернулась к себе на пост, а я подошёл к диванчику и присел на корточки перед лицом Энжелы. Она всё ещё спала, но спала уже с ровным дыханием, было видно, что она расслаблена, что сон стал глубоким и шёл на пользу. Не сказать ей новости было никак нельзя, а значит придётся будить. Жаль портить такой сон, но делать было нечего.
Я потрогал её осторожно за плечо, но руку не отпустил, чтобы на всякий случай помешать ей резко встать. Когда взгляд её обрёл ясность, я, опережая возвращающийся испуг, сказал ей, что новости есть и что они хорошие на этот момент, так что будем, как и прежде, надеяться на лучшее. Она выслушала всё это, не перебивая с сонным лицом приподнявшись, потом села и немного помассировала себе лицо ладонями. Я тоже сел на диван.
– Мне нужно ехать, – сказал я, – это всё надо закончить.
Она посмотрела на меня внимательно и даже пристально, что-то там она читала на моём лице. Что-то ещё решала или, может, хотела сказать. Я тоже ей хотел задать один вопрос, но не хотел прерывать её не озвученных мыслей. В конце концов, взгляд её сделался чуть мягче, что-то видимо для себя она определила.
– Я вернусь сюда, как закончу, – но это было не всё, что я хотел сказать, – ты останешься здесь ещё?
Это было то, что я хотел спросить, и спросить это было сложнее всего. Я видел, что натворил, видел, как разбились две жизни. Собрать и склеить всё обратно совершенно невозможно. Я боялся, что она начнёт меня ненавидеть, что было вполне оправдано, но знать мне ответ было необходимо. И даже если бы она не удостоила меня ответом, я должен был задать этот вопрос. Она ответила, что ещё останется. Она не отвергла просьбу сообщить мне о новостях, если будут. Я бы очень хотел отвести её домой, хотел бы, чтобы она выспалась, хотел бы помочь хоть чем-то, но мог лишь только не мешать её желаниям, какими бы они не были. Я был очень виноват перед ней. И мог бы быть виноватым ещё перед многими. Мне нельзя было сейчас её оставлять, но здесь я был уже бесполезен и может даже не нужен, и даже неуместен. Но уйти так просто из-за необходимости не хватало духу. Я представил в своих руках лук, вместо мишени себя и всадил стрелу прямо себе в сердце.
– Я ещё вернусь, ты мне веришь? – спросил я.
– Верю, – ответила она.
Через несколько минут я оказался на улице, там был день. Было светло, в больнице этого не чувствовалось. Медленно падал хлопьями снег, он быстро таял на протянутой ладони, было не холодно. Я очень глубоко вдохнул мокрый воздух и, когда выдохнул, мне показалось, что из меня что-то безвозвратно ушло.
Глава 17 (воскресенье) Город. Библиотека.
Я думал, где бы встретится с друзьями. Из защитной программы я узнал, где они. Хотелось найти негромкое место. В размышлениях я сел в транспортник, он шёл до Парнаса. Маршрут проходил через музей книги. Это было хороший вариант. Конечно, это больше походило на библиотеку. Много стеллажей, старые переплёты, запах бумаги. Любую книгу можно взять и почитать, но только там, на месте. Работников не было, только охрана следила за всем через видеокамеры. Не считая долгом больше думать над местом встречи, я позвал их туда. Сообщением, так как говорить пока был не в силах. Те откликнулись и согласились.
Я сошел на нужной остановке и прошёлся по аллее к этому небольшому двухэтажному дому. Через высокие окна виднелись бесчисленные сплочённые ряды книжной братии. Открыв всегда незапертую дверь, я прошел в небольшой коридор, где был маленький гардероб. Я оставил сушиться на вешалке куртку и, неуклюже поправляя рюкзак, направился внутрь. По пути там был кофейный аппарат, но я налил себе только воды, кофе не хотелось. Я сел за круглый стол, на котором кто-то оставил несколько книг. Что-то историческое было там, но разглядывать я не стал. Здание само по себе обволакивало историей. Как-то ведь раньше пользовались книгами для работы, для учёбы. Для настроения, наконец. И размышлений. Мировая художественная литература служила и служит этому. Книги и сейчас пишутся и издаются, просто уже давно никто не печатает это тысячными тиражами. Электронные чернила всевозможных визоров, от карманника до три-дэ проектора, заменили создание этих бумажных предшественников.
Прошло сколько-то времени. Из прихожей я услышал знакомые голоса, Градский что-то внушительно объяснял Бертычу. Оставив вещи у стула, я вышел к ним навстречу с недопитым стаканчиком. Они подошли ко мне, поприветствовали и, стряхивая мокрый снег, стали снимать свои плащи. Я ещё не совсем вступил с ними в беседу, но почувствовал нечто незнакомое в их голосах. Весёлости знакомой не было, понял я несколько секунд позже.
Нужно было уединиться. Градский сказал, что здесь есть конфиденциальные столики. Что это такое я не смог себе представить и поверил на слово. Мы пошли за ним куда-то вглубь здания, в лабиринт книжных стеллажей. Шли молча, здесь итак разговаривать подолгу было не принято, а сейчас вообще не очень хотелось говорить лишнее. Градский знаком указал нам, что пришли, и мы остановились перед какими-то мутными стеклами.
Конфиденциальным столиком оказалось отгороженное от других таких же столов двумя нетолстыми стенами пространство, ещё одна сторона которого выходила окном на улицу и последняя была из матового стеклопластика с раздвижной полупрозрачной дверью. Конечно, от громких звуков такая шумоизоляция не спасала, но обычный разговор могла и утаить, оставив наблюдающему из музея только неясные силуэты. Они оба взяли себе по стаканчику кофе, мы уселись и я оказался напротив них. Мы закрыли за собой дверь. Настал момент, тяжелее которого я в жизни не испытывал.
– Послушай, Бит, дело оказалось куда серьёзней, – сразу взял слово Градский, – Бертыч, можно я сначала скажу? Даже не знаю с чего начать. Вообщем, дело вот в чём. Нет, знаешь, ты меня сначала прости. Прости за то, что я тебе должен сказать. Я, как друг, тебе такое говорить не должен, но если дружба наша чего-то стоит, то ты всё поймёшь.
Бертыч смотрел на него изподлобья, хмурые брови были сомкнуты. Он был не брит, что было на него не похоже. То и дело его рука сжималась в кулак, отчего по оголенному предплечью пробегал рельеф мышц. На скуле очень резко была прочерчена единственная молодая морщина.
– Да, так вот, – перехватив его взгляд, продолжил Градский, – суть положения такова. Как ты знаешь, я член совета по художественной культуре гуманитарного института. За последние пять лет была проделана большая работа по организации участия в художественном турне “Межпланетный свет”. Эту работу делал не один я: художники, которые писали и представляли нам картины на наших вернисажах, сами организаторы этих мероприятий, люди из поддержки художественных мастерских и мы, те, кто доказывал земным комиссиям, что тоже имеем право выставляться на других планетах. Все мы участвовали в большой программе по созданию условий для работы и дальнейшему отбору картин для этого турне. Художники иногда, я знаю, ночи проводили в студиях, лишь бы создать что-либо достойное от лица нашей Синеи. Конечно, творили от души, никто никого не заставлял и специально не заманивал. Но самое главное для этих людей, а я с ними со многими знаком, узнать мнение из других миров о том, что они написали. Не столько их манит престиж такого мероприятия, сколько очень серьёзная оценка собственного творчества. Не всех, но в основном. Некоторые и здесь уже знаменитости. Но для них это не предел. Они хотят знать о себе больше. Одним словом, ни художников, ни своих коллег организаторов я не могу подвести. Я не могу подвести такое огромное количество народа. А теперь, собственно, суть: мне не пришлось искать встречи с Эдисоном, он сам пришёл ко мне сегодня на кафедру. Он вежливо отдал мне конверт и быстро ушёл, сославшись на занятость. В конверте была распечатанная копия конторского договорного бланка с пунктами по принятию решения нашего участия в этом конкурсе в этом году. С открытой графой о переносе на следующий. Он связан с Контролой, понимаешь, Бит. Он зарежет, не моргнув, все усилия за последние полтора года. Слать картины через космос, ты представляешь, как это дорого? Нам никто просто так разрешения на это не даст. Всё, о чём мы с ними договаривались, сводили сметы, подгадывали сроки – всё пропадёт. Им же всё равно, что в этот год, что в следующий. А что сказать художникам? Ведь мы вышли по договорённостям на предварительный уровень. Мы ждём финального одобрения после зимы. Всё для этого есть и даже конторские пошли слегка навстречу. И я знаю с заседаний совета, что в этой графе прочерк, а не открытая дата. Бит, нам надо искать другой путь. Я не могу тебе помочь с этим. Ты уж прости меня, если можешь. Но я, правда, не могу.
Я смотрел на него и понимал, что произошедшее ночью он не знает. Они оба ничего не знают. Что я сам их предаю, не рассказывая сразу, сию секунду, то, что должен. И он ещё у меня просит прощения. Всё должно было быть наоборот.

