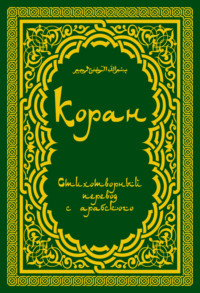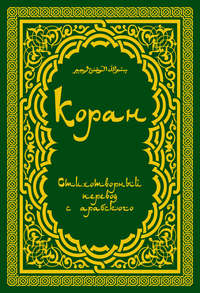Полная версия
Свет с Востока
И немец-булочник не раз
Уж открывал свой васис дас
⁂Занятия за занятиями…
Мы все больше привыкаем к Николаю Владимировичу. Он совсем не официальный, «застегнутый на все пуговицы», он домашний. С ним легко и просто. Весь он, пронизанный каким-то внутренним сиянием, всегда светлый и жизнерадостный. Скажет шутку и первый смеется так заразительно, что не сдержать улыбки, вызванной подчас не столько самой шуткой, сколько радостью общения с умным и веселым человеком. А сложные законы арабского языка он излагает с такой непринужденностью подлинного мастера, что не раз думаешь: вот искусство! И подступает комок к горлу от гордости за него, за Ленинград, за всю нашу науку.
Человечность Юшманова вдохновляла и обязывала; не приготовить урока было стыдно. Атмосфера доброжелательства, царившая на занятиях, тоже помогала усваивать трудный материал. В середине первого курса мы уже довольно бегло читали несложные фразы в хрестоматии Гиргаса и Розена, по которой училось не одно поколение русских арабистов, делали сносный сырой перевод. Грамматика действительно была трудна, особенно когда начались «породы», своеобразная категория, отсутствующая за пределами семитских языков. В. Каверин в своих «Вечерах на Васильевском острове» дает место студенту-арабисту, исступленно вталкивающему в свою память эти «породы»:
Каталя, катталя, кааталя, акталя… такатталя, такаа-таля… инкаталя, иктаталя… икталля, истакталя…
На тексте постепенно запоминались «породы» и их производные, падежи, залоги, наклонения. Знания росли, но чем больше близилась весенняя сессия, тем более росло мое волнение: вдруг сорвусь на зачете, не запомнив нужной грамматической формы? Чем шире знания, тем их труднее объять. Аллеи Кронверкского парка часто видели меня в эту тревожную весну с печатной «Грамматикой литературного арабского языка», созданной Юшмановым пятью годами ранее. В этом пособии, сразу по выходе ставшем библиографической редкостью, я впервые увидел мощь юшмановского ума: море арабского языка, одного из самых богатых и трудных языков мира, содержимое множества средневековых фолиантов, громадная палитра звукосочетаний – все это было так переработано в мозгу тридцатилетнего ученого, что для полного изложения материала ему хватило объема небольшой книжки. Но эта книжка – труд математика: схемы, формы, четкие, лаконичные фразы. Ее идея: жизнь языка, его будто бы стихийное иррациональное развитие подчиняются точным и неотвратимым законам.
Экзамены прошли хорошо. Осенью на втором курсе мы перешли к чтению современной арабской прессы. Наша группа к тому времени подтаяла: из пятнадцати человек четыре перешли на специальность с более ясной перспективой.
Трудности языка тоже испытывали нас. Две газеты, «Мать городов» из священной Мекки и «Хадрамаут» с индонезийских берегов, содержали материал столь же обильный, сколь и малопонятный для слабо знакомого с языком и реалиями арабской жизни. Не говоря уже о том, каким камнем преткновения на первых порах являлись для нас европейские слова в передаче арабскими буквами, сам переход от опробованной десятилетиями небольшой хрестоматии со словарем к широким и неизведанным газетным листам создавал психологический барьер, взять который можно было лишь постепенно и при достаточной целеустремленности.
Дорвавшись до того, что так долго искал, я занимался арабским языком исступленно, отрекшись от всего, что могло мешать. Но взял слишком круто, начал терять силы. Пытался возместить упадок энергии волей, не понимая, что это средство скоротечно.
Я подолгу бился над каждым словом своих переводов; после многих часов изнурительного труда удавалось перевести лишь маленькую статью. А хотелось быстрых результатов, и нетерпение росло. Не думалось о том, что корень, чтобы поднять на себе дерево, должен мужать неторопливо, как и все в природе. Был я молод, горяч, нетерпелив, и от возникших трудностей у меня стали опускаться руки. Я заставлял себя заниматься ежедневно, упрямо штурмуя неподатливые фразы. Но от этого нервного штурма наступила усталость; блеск арабского языка для меня потускнел, в утомленный мозг стало прокрадываться разочарование. Это было страшно. «Но ведь я всегда стремился именно к этой специальности, – думалось мне, – трудности временны, они отступят перед волей, нужно только работать и работать… Но где взять столько сил, где?..» Да, нужно заниматься… И я занимался каждую свободную минуту. Однако мрачный фанатизм не может быть долговременным помощником воли; для ее торжества нужна светлая одухотворенность. И Юшманов мне ее дал. Он незаметно следил за мной и пришел на помощь в самую трудную минуту. Не было никаких расспросов, увещаний, внушений, никаких дополнительных занятий, мое достоинство не было принижено ни словом, ни намеком. Николай Владимирович просто стал внимательно отмечать каждый мои удачный ответ, он по крупице собирал то хорошее, на что я был способен. Если мне вдруг приходилось останавливаться, не зная, как сказать дальше, он находил нужное слово – одно слово! – от которого развертывалась моя дальнейшая мысль. Оказалось, что дела с арабским языком у меня в общем шли хорошо – интерес к нему и упорные занятия давали свои плоды, – но для возникновения уверенности в себе нужно было признание со стороны. Юшманов достойно оценил мои старания, и это наполнило меня верой в свои силы. Теперь каждый урок, на котором я мог показать работу своего ума и получить одобрение найденного пути, превращался для меня в светлый праздник. Чувство роста укрепляло и вдохновляло. Николай Владимирович, конечно, рисковал: постоянные похвалы могут взрастить самовлюбленную посредственность. Но он словно видел тот путь, которым я пришел к арабистике, и сознавал, что самовлюбленность ко мне не привьется, а без умеренной дозы честолюбия нет начинающего ученого.
В группе говорили:
– Юшманов – ну, какой он преподаватель? Никчемный!
– Не умеет заинтересовать предметом! На занятиях такая скучища!
– Нет, братцы, преподаватель он хороший: у него можно вовсю пользоваться подсказками и шпаргалками, ни в чем не препятствует…
– Еще и сам подсказывает…
– Его доброта – зло; ничему он нас не научил…
– Да, знать-то он знает, а передать не умеет… Действительно, никчемный педагог…
А вот что сказал о Юшманове его учитель Игнатий Юлианович Крачковский, оценивая пройденный им путь:
«Он жил в науке, но преподавателем был для немногих; слишком он был углублен в свои мысли, не оставлявшие его ни на минуту, и, чтобы убедиться в этом, достаточно было увидеть его хоть раз одного на улице. Показательны в этом смысле были и памятные многим доклады, когда он чувствовал себя свободно. Это были те же мысли вслух, какое-то нескрываемое иногда изумление перед тем, как это интересно и неожиданно выходит. Точно фокусник, он при удачном выходе иногда невольно прищелкивал пальцами. И тем не менее при таком внешнем ореоле оригинальности, а временами и чудаковатости, слушатели чувствовали, что перед ними творится настоящее научное дело, что перед ними научный талант, талант в своей области большой и очень своеобразный. А теперь некого нам так слушать, нет того, за ходом мысли которого можно было с таким высоким наслаждением, так плодотворно для каждого наблюдать…»[1]
Шпаргалки… Подсказки… Заинтересовать предметом… Юшманов знал, что все это нужно лишь тем, кто внутренне чужд арабистике, кто попал на арабский «цикл», привлеченный мнимой экзотикой Востока, перспективой материальной выгоды или просто не смог поступить на другой факультет. Таким он не мешал пользоваться шпаргалками, считая, что великовозрастный школяр никогда не станет ученым, что тот, кто хочет чему-нибудь научиться, будет рассчитывать не на бумажку, а на собственную голову. Он и не старался заинтересовать этих молодых людей своим предметом, по-видимому, исходя из убеждения, что интерес, чистый и сильный, должен прийти в аудиторию вместе со студентом, а долг преподавателя – направить его в нужное русло, способствовать его мужанию и преобразованию в сгусток творческой энергии длительного – на всю жизнь – действия. Когда задавался вопрос, исходивший из собственных раздумий студента над материалом курса, следовал ответ, далеко выходивший за пределы программы; в таких случаях Юшманов разговаривал с розовощеким юнцом тепло и доверительно, как с равным. Советовал прочесть массу книг и высказывал такие замечания, которых доныне нет ни в каких книгах. Ширилось перед восхищенным взором студента море науки, еще подернутое розовым отсветом утренней зари жизни, ум начинал чувствовать свою силу и стремительность.
Да, Юшманов был «преподавателем для немногих».
К концу второго курса из пятнадцати человек в группе осталось шесть. А на исходе третьего, после работы над изучением арабских почерков, работы достаточно трудоемкой и не всегда веселой, Николаю Владимировичу пришлось заниматься с единственным слушателем. Часы этих занятий, не раз превращавшиеся в живую беседу о людях и судьбах арабистики, незабываемы. Они связали учителя и ученика на всю жизнь.
Быть может, так было в университетском здании на Неве и сто лет назад, когда арабист Сенковский, кого вся читающая Россия и сам Пушкин знали как блистательного «барона Брамбеуса», тоже нередко читал лекции одному студенту. Было у Юшманова и Сенковского что-то общее, живою нитью связавшее их через мертвую толщу столетия. Что же это? Пожалуй, то, что оба они – арабисты-романтики. Я не боюсь этого необычного сочетания и повторяю его, глядя в глаза тем, от взгляда которых, говоря словами Апухтина, «прокисает молоко».
Сколько востоковедов серьезно считают, что ученому мечта противопоказана, что он должен исходить только от осязаемых фактов! Но наш фактический материал и сейчас еще недостаточен. Вытекает ли отсюда запрет обобщать? Если нет, то можем ли мы отказываться от воображения? Если нет, то нам должна служить и мечта, дающая возможность сперва мысленно, а потом реально прокладывать в науке новые магистрали. Романтизм Сенковского истекает из его души литератора пушкинской плеяды. У Юшманова торжество творческого духа над фактами основывается на осознании всемирной гармонии языка, проявляющейся в многообразных, но всегда восходящих к единой сущности частностях. Это умение видеть за фактами, дальше фактов, способность создавать исчерпывающую умозрительную картину целого в сочетании с математическим лаконизмом изложения частных фактов он постарался передать своему ученику, и пусть не сразу, а много раз пропущенное через собственные раздумья юшмановское наследство впоследствии вошло в золотой фонд моих приобретений в арабистике.
Сенковский и Юшманов… Когда много лет спустя группе сотрудников Института востоковедения предложили написать статьи о виднейших русских арабистах, я выбрал эти два имени – ведь и тот, и другой прожили во мне вторую жизнь, обогатив меня частью своего внутреннего богатства. Я убежден – и опыт подтвердил это, – что без гипотезы нет ученого и что боязнь совершить ошибку должна быть в каждом ученом попрана смелостью возвышенной мысли.
Если уж говорить о математической лаконичности юшмановского письма и речи, то нужно вспомнить два случая… Однажды мы очень быстро справились с текстом, до конца урока оставалось минут пятнадцать. Юшманов, блестя смеющимися глазами, рассказал притчу о развратном мулле, который, желая иметь каждую ночь свежую девственницу, вознес к аллаху соответствующую молитву в форме арабского двустишия. Проскандировав это двустишие, он обратился ко мне:
– Как перевести?
– «Боже, даруй нам еженощно…»
– Верно. Дальше? Я замялся.
– Ну?
– Николай Владимирович, во втором стихе неприличное слово…
– Ах, это, первое… По-русски оно значит просто-напросто…
И грохнул такое словцо, что я весь заалел. А он спокойно сказал:
– Вы смутились потому, что это слово относится к разряду табуированных. На нем лежит табу – его нельзя произносить в приличном обществе. Но для ученого не может быть никаких табу, иначе его знание будет ущербно. Железное условие перевода – точность, соединенная со скупостью средств. Поэтому слово текста должно передаваться словом перевода – а не двумя, не тремя, не описательно. Идиомы, конечно, не в счет…
Юшманов, как подлинный ученый, любил все живое, острое, пряное, все, что питает и стремит силу ума. Афоризм, сразу западающий в память, хлесткая эпиграмма, меткое сравнение, соленое, но точное словцо – все находило отзвук в его душе и место в его умозрительной системе человеческой мысли и речи.
Как-то на улице мы купили пирожков. Юшманов надкусил самый румяный и сморщился:
– А пирожки-то…
Закончил фразу крепким словцом и счастливо засмеялся: точнее не скажешь.
Именно поэтому Юшманов не мог ограничиться одним арабским: ему было тесно в этом громадном, но не единственном море, он разрывал его пределы, стремясь к другим просторам, и трудно сказать, какие волны были ему родными. В смысле происхождения, пожалуй, это были волны искусственного языка идо, созданного в начале нашего века де Бофроном на основе творения варшавского врача Заменгофа – языка эсперанто. Увлечение последним, на грани 20-х и 30-х годов очень широкое, захватило и меня, школьника; в маленькой Шемахе райкомовец Добрыднев, с гордостью показывавший свое имя в международном списке эсперантистов, ссужал меня литографированными выпусками курса этого языка, издававшимися Союзом эсперантистов Советских Республик. Должно быть, подобный интерес к всемирному средству общения существовал и в гимназические годы Юшманова. Языком идо, усложненным развитием эсперанто, он овладел в пятнадцатилетнем возрасте, причем настолько, что перевел на него пушкинского «Пророка».
В университет на невской набережной Юшманов принес не только семнадцать розовых юношеских лет, но и более сорока статей по лингвистике, опубликованных им на гимназической скамье. К этому времени он понял, что путь к познанию законов всемирного языка должен пролегать через изучение его многообразных живых проявлений. Его интерес устремился к языкам Кавказа, этой лингвистической сокровищницы, изучение которой взрастило вдохновенную мысль Марра; обратился к великому санскриту, одухотворившему жизнь Минаева, Щербатского, Ольденбурга; остановился на семитологии, бережно и плодотворно взлелеянной у нас трудами Коковцова и его строгой школы. Языки Шумера и Аккада, еврейских пророков и финикийских мореплавателей, сирийской науки и арабской культуры предстали перед юношей вечным отзвуком отшумевших исторических битв; жадный ум впитывал картину их последовательной связи и внутреннего развития не отвлеченно, а ища им место в мировом процессе языкотворчества. Раздумья над учебниками, далеко выходившие за черту программы, укрепляли в Юшманове критически созидающую мысль. Когда доклад начинающего студента в научном кружке привел в смятение университетского лектора арабского языка тем, что без труда ответил на давно мучившие его вопросы, проницательный Крачковский одним из первых среди преподавателей понял, что факультет приобрел будущего ученого.
Но пала на Россию война. В 1916 году, с третьего курса, Юшманов был мобилизован. Блистательный ум заиграл новой гранью – молодой семитолог виртуозно разгадывал сложные военные шифры, и это делало его незаменимым в среде, куда он попал. К своей alma mater ему пришлось вернуться спустя долгие семь лет, исполненные тоской по науке, семь невозвратимых лет… Он вышел из университета таким же полным жажды и пронизанным целеустремленностью, каким вступил в него десятилетие назад. Море ширилось, переходя в океан, таящий другие моря.
В 1928 году Юшманов издал свою арабскую грамматику, переработав в ее двести страниц многотомные своды восточной и западной науки. С титульного листа бережно переплетенного экземпляра на меня смотрит каллиграфическая надпись: «Дорогому Павлу Константиновичу Коковцову, от ученика-автора. Гатчина…. июля 1928 года» – переживший и ученика, и учителя отблеск первой и ничем не смятой любви. Тогда же Юшманов переписывался на мальтийском языке с учеными средиземноморского острова. Тогда же его избрали членом научного совета Центрального комитета нового алфавита. Сухие прозаические слова, но задержите на них мысль еще на мгновение – и откроется поэзия, великая поэма приобщения бесписьменных народов к мировой культуре через научно выработанные азбуки, золотые ключи к Пушкину, Шекспиру и Данте… Юшманов был одним из главных и самых увлеченных деятелей этого движения, и, может быть, именно здесь наиболее ярко выявилось, что его талант служил высшим интересам общества.
Если язык идо стоял у колыбели этого ученого, то трудно сказать, стихия какого живого языка стала ему родной в годы мужания. В Институте живых восточных языков и на историческом отделении нашего ЛИЛИ он преподавал арабский; когда с 1933 года у нас на лингвистическом отделении открылась кафедра семито-хамитских языков, Юшманов (впервые в России) стал вести там занятия по двум африканским языкам – хауса и амхарскому; позже он читал курсы «Введение в семитское языкознание» и «Сравнительная грамматика семитских языков», требовавшие от лектора абсолютного знания языков этой семьи. Я видел, как он же определял тексты, написанные по-литовски или по-венгерски. Большие языки Запада были ему известны давно. Этот феноменальный кругозор, приближавший его к Марру, а может быть, и ставивший наравне с ним, позволял ему мыслить крупно и поэтому глубоко. Видеть это можно даже на таком частном примере, как вошедшее в историю науки исследование открытого на моих глазах среднеазиатского диалекта арабского языка.
Осенью 1935 года я по совету Юшманова перешел на «арабский цикл» при кафедре семито-хамитских языков и литератур, где арабистика была представлена всесторонне: Крачковский читал здесь общий курс арабской литературы, вел семинары по изучению Корана и литературоведению; сам Юшманов вел общую семитологию; В. И. Беляев преподавал классический арабский язык, К. В. Оде-Васильева – современный; А. Ю. Якубовский читал историю халифата, В. А. Крачковская – мусульманское искусство. Для серьезной работы по всем этим линиям моя прежняя практика факультативных приходов на лекции с другого отделения не годилась, это было ясно и Юшманову, и мне. Став «законным» студентом при семитологической кафедре, я смог сосредоточить все свои силы в нужном направлении. С этой поры в моей арабистической жизни эпоха Юшманова начинает сменяться эпохой Крачковского.
Школа Крачковского
В беседах со мной Юшманов не раз упоминал имя Крачковского. Академик-арабист, филолог, автор множества работ, неутомимый исследователь и тонкий знаток средневекового Востока, Игнатий Юлианович был, по словам моего учителя, тем человеком, школу которого должен пройти каждый дерзающий стать арабистом. «Это высший авторитет в нашей области, – добавлял Николай Владимирович, – а ведь еще не стар и, к счастью, живет в Ленинграде».
Слово «академик» наполняло меня смущением и трепетом. Воображению представлялся всезнающий и почти бесплотный жрец, полубог, который вряд ли снизошел бы до разговора с простым студентом-провинциалом, едва осилившим арабские буквы. Однако дерзостное желание учиться у первого арабиста страны, перенять хотя бы частицу его знаний и опыта, вспыхнувшее и росшее е каждым днем, родило во мне мечту познакомиться с ним. Но как это сделать и с чего начать разговор, чтобы привлечь внимание этого, вероятно, уже пресыщенного всеобщим преклонением человека? Что есть у меня за душой, чтобы, говоря с ним о предмете, известном ему вдоль и поперек, я мог тронуть его сердце, отметиться в нем хотя бы неясной тенью? Шутка сказать, мировой ученый – и студент, гигант – и карлик… Но ведь нужно же, нужно, школы Юшманова уже начинает не хватать: он – языковед, грамматист, а меня все больше интересуют поэзия, география, история, то есть в конечном счете именно история, ведь все другое вызвано ею, развито ею, отмечено ее печатью…
Случай для знакомства вскоре представился. Подрабатывая в должности библиотекаря на факультете, я однажды увидел, что заведующий книгохранилищем, желая избавиться от «всякого хлама, накопившегося на полках», бросил в мусорную корзину несколько ветхих книжек. Мне показалось, что среди них мелькнул какой-то арабский текст. Когда заведующий вышел, я обнаружил в корзине тетрадку с двадцатью двумя пронумерованными страницами; на каждой в двух столбцах было напечатано по-арабски и по-латыни. Титульный лист гласил: «Арабский Коран», и далее сообщалось имя издателя, место и год издания: Николай Панеций, Рим, 1592.
Я ахнул и побежал к висевшему у входа в институт старинному телефону, покрутил ручку, назвал номер абонента…
– Слушаю, – прозвучал в трубке свежий молодой голос. – «Наверное, сын», – подумал я и, волнуясь, произнес:
– Можно попросить к телефону академика Крачковского?
– Это я, – ответил голос. – Что вам угодно?
Я растерялся и сбивчиво рассказал о своей находке.
– Ну, что же, это интересно, – сказал Крачковский. – Если можете, приходите ко мне, посмотрим с вами сей уник…
Спокойный теплый тон и приглашение ободрили меня. Минут через десять стремительного хода по набережной я уже был в старом академическом доме на Седьмой линии Васильевского острова, у двери с медной именной дощечкой.
– Пожалуйте, – негромко проговорил Крачковский. Передо мной стоял человек среднего роста с окладистой седеющей бородой, окаймленной пышными усами, с живым внимательным взглядом и мягкой, чуть застенчивой улыбкой. Его свежее лицо, едва тронутое первыми морщинами, светилось таким радушием, что робость моя стала отступать, и я уже довольно непринужденно представился.
– Ах, так вы студент Николая Владимировича! – Глаза Крачковского потеплели. – Что же, очень хорошо, у него есть чему поучиться… Так что вы принесли?
Я подал ему тетрадку, и мы прошли в кабинет. Игнатий Юлианович стал рыться в каких-то справочниках, а я, усаженный на диван, стал несмело осматриваться. Вот это библиотека! Все четыре стены сверху донизу в книжных полках. Мерцают серо-желтые пятна бумажных обложек, тускло светится позолота букв на корешках томов… Книги, книги… Толстые, тонкие, высокорослые, маленькие, тесно жмущиеся одна к другой книги… Здесь вся арабистика, опыт и мысль поколений. Не ее ли символы – бронзовый всадник в углу, стремящийся в неизвестное, и вечнозеленые листья фикуса поодаль? А посреди комнаты, освещенной двумя окнами, стол – просторный и строгий стол ученого, за которым столько написано и столько еще будет создано, стол…
– Ну вот, все правильно, – сказал Крачковский, отходя от полки, у которой он перелистывал какой-то старый том. – Да, этот Николай Панеций… Вот тут написано, что он задумал издать весь Коран в подлиннике с латинским переводом. Но, может быть не без влияния католической церкви, субсидии не получил, а своих денег не хватило… Ему и пришлось напечатать всего двадцать две страницы, эта цифра здесь указана, а потом прекратить издание. Так что дальнейшего текста и не было, но хорошо, что сохранилось то, что вы принесли, любопытная находка через три с половиной века…
Потом он подробно расспрашивал меня о моих занятиях, а на прощание подарил экземпляр своей книжки «Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского университета».
Это было 29 марта 1934 года. Спустя много лет я прочитал:
«Моя книжка о Тантави вышла в начале 1930 года. Не всем она почему-то понравилась, но меня утешило то, что арабисты и арабы, а особенно земляки шейха, ее оценили и нашли для нее теплое слово. Я много пережил, пока работал над нею. До сих пор, когда меня спрашивают, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я всегда называю только четыре книги: о дамасском веселом поэте, что был зазывалой на фруктовом рынке, об изящной сатире мудрого слепца, поэта-философа из Сирии, о теории поэтического слова, которую создал эмир, поэт и тонкий филолог, что на свое несчастье пробыл один день багдадским халифом, и последнюю – о египетском шейхе, профессоре в Петербурге. Но иногда мне кажется, что больше всех я почему-то люблю именно последнюю, и часто я открываю ее, чтобы посмотреть на портрет того, о ком идет в ней речь».
Любимое детище Крачковского и сейчас стоит на моей книжной полке, и я по временам тихо перелистываю ее страницы, вспоминая невозвратный и незабываемый мартовский день.
Лекции Крачковского были для меня отличны от остальных. Дело не в предмете – литература не интереснее других областей знания, и курс ее не может оставить неизгладимое впечатление, если цитируемые стихи переводятся прозой и на всем лежит налет экзотичности. Дело было в манере чтения. Крачковский читал ровным, спокойным голосом, неторопливо и уверенно, лишь изредка взглядывая в разложенные перед ним бумажки. Казалось, сама история, перекипевшая и стихшая с веками, остудившая свои страсти раздумьем зрелых лет, с улыбкой оглядевшая и оценившая их с позднего порога жизни, вложила эти хладнокровие и трезвую рассудительность в уста ученого…
«Вот идеал! – думал я. – Да, исследователь должен быть невозмутим, лишь тогда каждое слово его снизойдет откровением». Лишь много лет спустя я понял, что заблуждался. Ученый – нет, он не бесстрастный летописец, он трибун. История не умирает, она переливается из формы в форму; ученый – не свидетель, а живой участник ее, творящий умы ее творцов. Как же можно творить не страдая, вновь и вновь не переживая того, о чем говоришь, не чувствуя каждым нервом пульс истории прошлой и современной?! Не бесстрастность, а пламень, не покой, а опустошенность, ибо все передал другим…