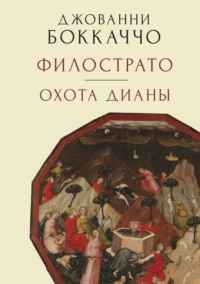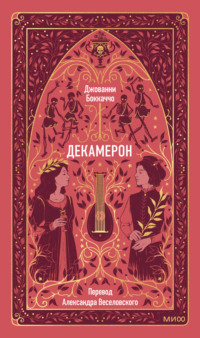полная версия
полная версияРенессанс. Декамерон. Сонеты
Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком.
Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял, без всяких разъяснений, что разумел Бергамино, и, улыбаясь, сказал: «Бергамино, ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою скаредность – и то, чего ты от меня желаешь; поистине никогда скупость не овладевала мною, как только теперь, по отношению к тебе; но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И, велев уплатить хозяину Бергамино, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол – уехать или остаться при нем.
Новелла восьмая
Гвильельмо Борсьере в тонких выражениях укоряет в скупости мессера Эрмино де Гримальди
Рядом с Филострато сидела Лауретта; выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамино, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказания, так начала свой рассказ: – Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и небезуспешно укорил в скупости богатейшего купца; и хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо.
Итак, жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей, так, и через меру, скупостью и скаредностью всех скупцов и скряг на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы учествовать других, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато рядиться, претерпевал, лишь бы только не тратиться, большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему, и по заслугам, его фамилия – де Гримальди – предана была забвению, и все звали его мессер Эрмино Скареда. В то время как, ничего не тратя, он преумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый потешный человек, благовоспитанный и красноречивый, по имени Гвильельмо Борсьере, не похожий на нынешних, которых, к стыду людей развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда как в те времена ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распрей и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развеселять прекрасными, игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками, точно отцы, укорять порочных в их недостатках – и все это за малое вознаграждение: теперь они ухитряются убивать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевелы, рассказывая мерзости и непристойности, и, что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет; и тот из них более люб, того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные синьоры, кто говорит и действует гнуснее других: достойный порицания стыд настоящего времени – ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество в подонках пороков.
Возвращаясь к тому, с чего я начала и от чего удалило меня немного, против ожидания, справедливое негодование, скажу, что упомянутого Гвильельмо встретили с почетом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессера Эрмино, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что Гвильельмо Борсьере – человек достойный, и так как в нем, несмотря на его скупость, была искорка благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие и разнообразные беседы и, разговаривая, повел его и бывших с ним генуэзцев в новый красивый дом, который построил себе, и, показав его, сказал: «Мессер Гвильельмо, вы видели и слышали многое, не укажете ли вы мне что-нибудь, нигде не виданное, что бы я мог велеть написать в зале этого дома?» Услышав эти неподходящие речи, Гвильельмо сказал: «Мессер, не думаю, чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную – разве на чох или что-либо подобное; но коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего, полагаю, вы никогда не видали». Мессер Эрмино сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое?» Он не ожидал, что тот ответит, как ответил. На это Гвильельмо внезапно сказал: «Велите написать: «Благородство»». Когда мессер Эрмино услышал эти слова, им внезапно овладел стыд настолько сильный, что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. «Мессер Гвильельмо, – сказал он, – я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знавал его». С этих пор и впредь (такую силу оказало слово Гвильельмо) он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.
Новелла девятая
Король Кипра, задетый заживо одной гасконской дамой, из малодушного становится решительным
Оставалось лишь Елизе получить последнее приказание королевы; не ожидая его, она весело начала так: – Часто случалось, юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоры и многие наказания, то делало одно слово, нередко случайно, не то что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной Лауреттой, и я хочу доказать вам то же коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком.
Итак, скажу, что во времена первого кипрского короля, по завоевании святой земли Готфридом Бульонским, случилось одной именитой гасконской даме отправиться в паломничество ко гробу Господню и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли ей постыдное оскорбление. Не находя удовлетворения и сетуя, она надумалась обратиться к королю, но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому, почему всякий, у которого накипело какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его. Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решилась, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии и, отправившись к нему, с плачем сказала: «Государь мой, я пришла пред лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя, в воздаяние за нее, научить меня переносить, подобно тебе, учиняемые тебе, как слышно, оскорбления, дабы, наученная тобой, я могла терпеливо перенести мое собственное, которое, Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла, тебе: ты ведь такой выносливый!» Король, до тех пор медлительный и ленивый, точно пробудился от сна и, начав с обиды, учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинявших противное чести его венца.
Новелла десятая
Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить его любовью к ней
Елиза умолкла; обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить: – Достойные девушки, как в ясные ночи звезды – украшение неба, а весною цветы – краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам, хотя теперь мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить – к общему стыду нашему, да и всех живущих. Потому что ту умелость, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше на нем полос и украшений, полагает, что ее следует и считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если бы нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил или навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других, чего бы не сказала против себя: так разукрашенные, подкрашенные, пестро одетые, они стоят словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если бы они промолчали; а они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа, и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей; ведь если бы природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда, и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время, и место, и лицо, с кем говоришь, ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словцом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмерят хорошенько свои силы с силами другого и ощущают, что та краска стыда, которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для того, чтобы мы умели остеречься, и еще затем, чтобы на вас не оправдалась всюду ходящая пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас последней из новелл этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали бы себя отличными и превосходством манер.
Не много лет прошло, как в Болонье жил, а может быть, еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик, по имени маэстро Альберто. Уже старик под семьдесят лет, он обладал столь благородным духом, что, хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени и, увидев на одном празднике красавицу вдову, по имени, как говорят, Мальгерита де Гизольери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша; и ему казалось, что он не уснет покойно ночью, коли в предшествовавший день не поглядит на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось, перед домом той дамы, так что и она и многие другие догадались о причине его появлений и часто шутили промеж себя, что человек столь зрелый годами и умом – влюбился; точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться, случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других сидели перед дверью ее дома, и когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали; ибо, встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец в приятной и игривой форме задали ему вопрос: как могло статься, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши? Поняв тонкий укор, маэстро отвечал с веселым видом: «Что я люблю, мадонна, не должно удивлять человека мудрого: особливо, что я люблю вас, ибо вы того стоите. И хотя у стариков, естественно, недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни желание, ни понимание того, что́ значит быть любимым; а это они, естественно, тем более понимают, что у них и разумения больше, чем у юношей. А надежда, побуждающая меня любить вас, мадонна, любимую столькими молодыми людьми, в следующем: я много раз видел, как, вечеряя, женщины ели лупины и порей; и хотя в порее ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще, побуждаемые развращенным аппетитом, ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, мадонна, что, и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты». Дама, устыдившись немного, подобно другим, сказала: «Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наше надменное намерение, во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека; потому свободно располагайте мною, как своею собственностью, лишь бы соблюдена была моя честь». Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро, весело и смеясь, простился с дамой и ушел. Так, не разобрав, над кем подшучивает, она, рассчитывавшая на победу, сама оказалась побежденной; от этого вы отлично убережетесь, коли будете благоразумны.
Уже солнце склонялось к вечеру и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: «Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву, и пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным назавтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому, во имя того, кем все живет, и в наше утешение пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена». Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой, за нею все другие, равно как и юноши, предоставляя себя ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Пампинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Пампинеей, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь: «Дорогие подруги, хотя Пампинея, более по своей любезности чем за мое достоинство назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устроении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим – и вашему; а для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать, и могли бы впоследствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умалить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Пампинеи, они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведшими к удовольствию; поэтому, пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву; и как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду; попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Пампинея не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению: хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков: так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели». Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы; но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество; и дар этот следующий: чтобы это постановление не обязывало меня сказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, знавшая его за забавного и веселого человека и отлично понявшая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли промеж себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палаццо, где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Емилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Емилия любовно запела следующую канцону:
Я от красы моей в таком очарованье,Что мне другой любви не нужно никогдаИ вряд ли явится найти ее желанье.Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моихТо благо нахожу, что дух наш услаждает,И новый случай ли, мысль старая ль – но их,Утех столь сладостных, ничто не прогоняетИ в мире, знаю я, мой взор не повстречаетТакого чудного предмета никогда,Чтоб в душу новое мне влил очарованье.В какой бы час себя ни пожелала яУтешить благом тем, – оно навстречу зоваСпешит немедленно, – и тут душа мояВся наслаждения исполнена такого,Что выразить его ничье не может слово,И не поймет его тот смертный никогда,Кто сам не испытал того очарованья.А я, которая сгораю тем сильней,Чем более на нем свои покою взгляды, —Вкушая уж теперь высокие услады,Что мне сулит оно, – и в будущем отрадыЕще я большей жду, с какою никогдаСравниться не могло б ничье очарованье.Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню; велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.
День второй
Кончен первый день Декамерона, начинается второй, в который, под руководством Филомены, рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели
Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь: закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть; затем, встав в девятом часу, отправились, по усмотрению королевы, на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Неифиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.
Новелла первая
Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Арриго; когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается
– Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особливо над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое.
Недавно тому назад жил в Тревизо немец, по имени Арриго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось; при всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине (правда ли, нет ли) случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо, без чьего-либо прикосновения, принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Арриго – святой, и когда народ со всего города сбежался к дому, где лежало его тело, понесли его, точно святые мощи, в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех, пораженных какою-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу.
Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго Мартеллино, третьего Маркезе: люди, посещавшие дворы синьоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным уменьем передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидя всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил синьор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти». Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет, я уж найду средство добраться до святого тела». – «Каким образом?» – спросил Маркезе. Мартеллино отвечал: «Я расскажу тебе как: я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стекки – с другой – пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня; не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стекки одобрили этот способ; не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого.
Взявши его так изуродованного, Маркезе и Стекки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и Бога ради прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко; в скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках: «Посторонись, посторонись!», они добрались до места, где положено было тело святого Арриго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартеллино и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здравия. В то время как все внимательно смотрели, что станется с Мартеллино, он, погодив немного, принялся (а умел он это делать превосходно) показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Арриго, что и грома не было бы слышно.
Стоял там случайно поблизости один флорентинец, очень хорошо знавший Мартеллино, но не признавший его, когда его привели так изуродованного; теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал: «Убей его Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека?» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили: «Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентинец отвечал: «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас, только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами!» Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был; схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами; тот не счел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартеллино кричал: «Помилосердуйте, ради Бога!» – и, насколько мог, отбивался; но это не помогало: толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, Стекки и Маркезе стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решались помочь ему; напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который наверно бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал: «Помогите, ради Бога! Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов; велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое». Услышав это, двенадцать служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартеллино чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и истоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья подесты, человек суровый, немедленно отведя Мартеллино в сторону, принялся его о том допрашивать, но Мартеллино отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартеллино снова спустили на землю и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, Мартеллино, видя, что отнекивание ни к чему не поведет, сказал: «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал и что нет». – «Хорошо», – отвечал судья и велел позвать нескольких; из них один говорил, что Мартеллино отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за шесть дней, третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартеллино сказал: «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательство; пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, недавно тому назад! И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело; тут меня и отделали, как видите. Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник синьории, к которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев».